Интервью с Юрием Константиновичем Руденко
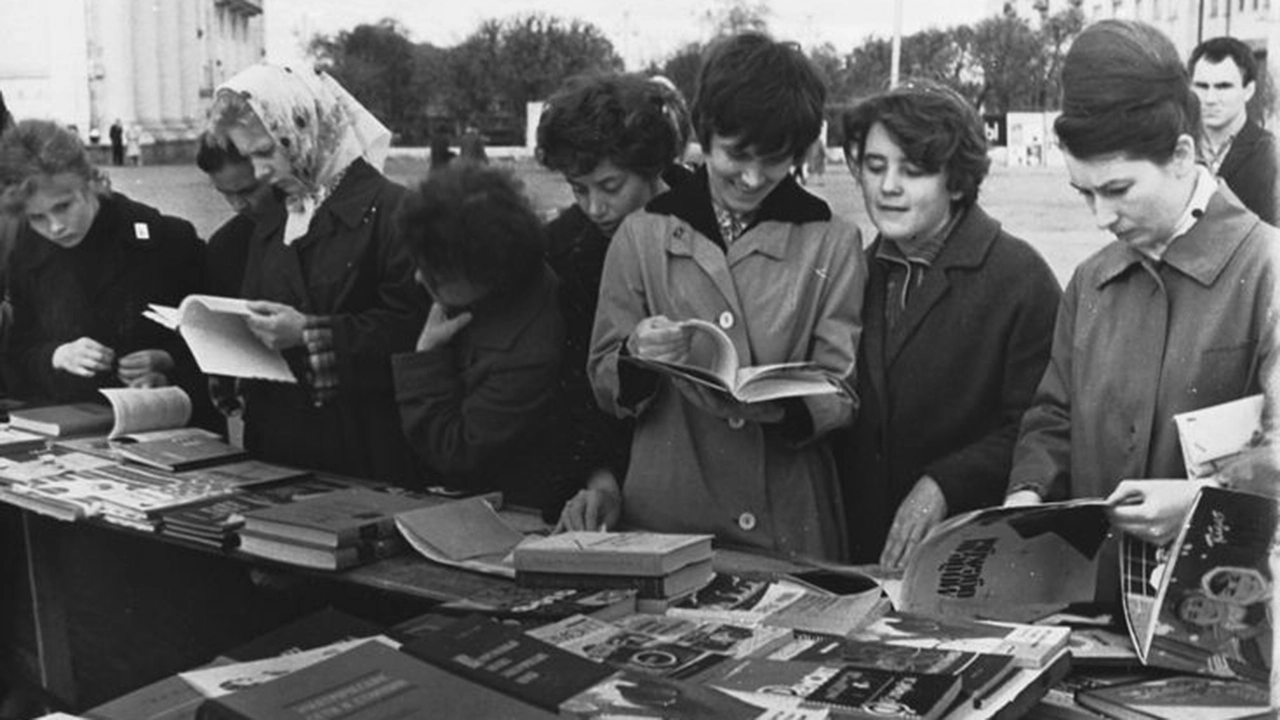
Ю.К. Руденко о переезде в Ленинград, учебе на филологическом факультете, изучении творческого наследия Н.Г. Чернышевского и создании кафедры западноевропейской и русской культуры в 1990-е годы
Ключевые слова
Упоминаемые персоналии
Интервью с Юрием Константиновичем Руденко
* - фрагменты отредактированы по просьбе респондента в соответствии с нормами русского литературного языка или по иным причинам.
Здравствуйте, Юрий Константинович! Давайте начнем с рода вашей деятельности, вы большую часть своей жизни посвятили литературе, давайте немного о предыстории, с чем это связано?
Тут я, обдумывая ваш вопрос, для начала сообразил, отчетливо для себя, что я человек в этом отношении абсолютно нестандартный. И сразу в нескольких отношениях. С одной стороны, нестандартный в социальном плане. Я родился еще до войны, я даже помню начало войны, потому что отец мой был пограничником. Война началась, мне было уже пять лет с половиной, так что я все это помню. Помню даже то самое утро 22 июня, потому что мама меня будила не вовремя (я хотел капризничать, это я хорошо помню), да еще взялась тут же меня одевать. Меня приучали самому одеваться, уже надо было. Я, значит, смотрю по её реакции, что капризничать лучше не надо. Она меня вывела на порог дома, а домишки были, по-моему, одноэтажные или двухэтажные. Действие происходит в городе Бельцы в Молдавии*. Небо еще даже не синее, только еле-еле, это было, видимо, начало шестого утра. Посмотри, говорит, на небо. Я смотрю, и не сразу начал понимать. Пол неба над нами чистое, а другая половина неба — до горизонта — всё черное. И только тогда я рассмотрел вот эту черноту всю: немецкие самолеты летят на восток.
Еще никто ничего не знал, потому что отца подняли еще раньше — ординарец явился, всех офицеров подняли… Отец был младшим лейтенантом… тогда еще лейтенантов не было, я не помню, как они назывались тогда… Нас (семьи офицеров) вывезли утром за город, в уже пустой детский санаторий туберкулезный. Сколько мне помнится, нас завтраком там накормили, и после этого срочно выдворили оттуда в лес, потому что бомбежку обещали. Действительно, нас туда вывели, а этот санаторий разбомбили. Нас оттуда повезли в город опять, все семьи пограничников собрали в соборе — городском большом соборе, православном, и там мы сидели почти целый день — только женщины, только дети: ор, питаться нечем, никто ничего не понимает, не знает. Под вечер бомбили город, очень слабенько, потому что слышали, как свалился крест с собора, загремел!.. Ой, плач, визг поднялся, всех успокоили, и ночью, где-то часа в два, всех погрузили в грузовики — два, по-моему, было грузовика или три, вывезли еще в лес подальше, глухой такой лес, и сказали: сидите и ждите. Только ночью, где-то часа в три, в четвертом часу, прибыли пограничники, старшина и двое рядовых. Вот, сказали, всё, уезжаем, надо успеть погрузиться в составы, чтобы проскочить через узловую станцию. Ну, женщины завопили (это я хорошо помню), вопили о том, что ведь никто ничего на руках не имеет, кроме того, что надето на них, на детях… Как было все организовано потрясающе! понимаете, это я до сих пор помню, это самое главное, что я помню — великолепную организацию: эти все подтянутые, все собранные, все деловитые военные!.. Старшина тут же переписал всех по адресам, что именно брать из вещей, где, всё ему продиктовали. Они уехали, сказали: ждите, успеем — успеем, не успеем — ничего не попишешь. Действительно, они успели, где-то часа через полтора приехали, три машины были доверху нагружены чемоданами, узлами, еще чем-то. А мы в это время собирались уезжать, потому что папа отслужил свое, и его должны были отправить в запас, и мы задержались в июне только потому, что у бабушки, маминой мамы, день рождения был 26 июня. Ну и решили — задержимся, отпразднуем в воскресенье бабушкин день рождения и поедем. Поэтому вещи все были собраны. Эти три чемодана: большой чемодан с детской одеждой, другой с вещами, и маленький чемодан, где была мамина чернобурка, тогда это было модно, перед войной, два её шёлковых платья, ещё отрез на папин гражданский костюм, вот это всё ценное было. И пока ехали в лесу эти машины, на каком-то буераке[1], на переезде через лесной лучей, их тряхнуло, и три места изо всех машин упали в воду, но они не стали останавливаться, спешили. И среди этих трёх потерянных мест был как раз наш маленький чемоданчик. Помню, в эвакуации, в Хакасии, в Черногорске, наши женщины вздыхали о нём всё время. Там меняли вещи на продукты: сколько можно было наменять, а мы меняли всё тряпки, ношеные вещи! Так что я навсегда это запомнил.
То есть, моё детство, моя школа, это всё проходило очень далеко, можно сказать, в глухой провинции.
Это типичная рядовая советская провинция. Мы не жили в республиках, кроме Украины, после войны, в Закарпатье. Но что значит — советская провинция? Это значит, что вся атмосфера жизни была та же самая, что и везде, но не было особых культурных условий, театров например, были самые рядовые провинциальные театры — театр в Мукачево, театр во Владивостоке, всё!.. В 1951 году мы во Владивосток переехали, это был закрытый город, никаких новостроек, военная база Тихоокеанского флота… Ну и школы соответствующие, библиотеки соответствующие. Самое минимально доступное для всех. Та среда, в которой я и рос, и учился, в школе, в университете, и так далее.
А между тем мне как-то везло. Я не скажу, что у меня отчётливо возникал особый интерес именно к литературе. Ничего подобного! В детстве, я помню, маме стоило очень больших трудов приучать меня читать. Я был очень ленивым, очень строптивым читателем, был непоседой, а читать — это же надо сосредоточиться! Нет, это мне было не по душе. Мама какие-то книжонки приносила. Но всё, что в школе изучалось, то изучалось. Я был добросовестный «ученичок», но никаких особых, выдающихся способностей не проявлял. Я помню, в первом классе меня много раз оставляли после уроков, чтобы я выполнял упражнения по чистописанию — плохо писал, клякс много делал.
А в Мукачево у нас была прекрасная учительница, Валентина Алексеевна Белорусова. Естественно, тогда мы ничего о ней не знали. Я потом узнал, уже когда оттуда мы уехали, и я школу закончил, мне написали. Оказывается, она жена репрессированного военного, ленинградка, то есть петербурженка, потому что она заканчивала Петроградский университет в 1919 году. Это была еще вся старая профессура, старые учебные планы все, историко-филологический факультет. Она была историком, причем историком-западником. Кто преподавал русскую историю в школе, я не помню. А вот ее помню. Я хорошо помню тот первый урок истории в 5-м классе о летоисчислении до нашей эры. Она не могла сказать, что такое наша эра, по понятным причинам — потому что это от Рождества Христова, а это был запретный мотив, понимаете? И вот, она объясняет так, что начала же нет, у каждого начала есть что-то, что ему предшествует, с чего-то начинать надо, вот и принято начинать вот с этого… А как считать назад? А назад надо считать именно назад. И я хорошо помню: она объяснила и спрашивает: у кого есть вопросы? кому непонятно? — Мне! Она уже мне еще раз объясняет. Понятно? Нет, непонятно. Она еще раз объяснила. Нет, непонятно. — У тебя, говорит, мама тоже историк, ты у мамы спроси, пусть она тебе объяснит, а мы пойдем дальше… Очень деликатный голос. Ладно, я спросил у мамы — тоже не понял! Мама сказала: ну, ничего, учись, поймешь дальше сам. И точно, я забыл об этом, но где-то к новому году поймал себя на том, что мне стало вдруг понятно, почему так надо считать…
Но как все преподавалось! Если говорить о школьном времени, всём школьном времени, то были две учительницы, которые, в сущности, ввели меня в гуманитарную область. После Валентины Алексеевны в старших классах была преподаватель украинской литературы Екатерина Андреевна Самодрыга, учившая нас вникать в поэтическую красоту художественных текстов.* На Украине в русских школах (мы жили в Мукачево) мы должны были изучать украинский язык и литературу. Я хорошо помню, никакого принуждения, насилия не было… Я был очень плохо начитан. То есть до своего восьмого класса, я хорошо помню, с огромным трудом мусолил несколько книг, но прочёл. Я прочел изданную в серии «Школьная библиотека» (была такая серия) повесть «Дикая собака Динго» Р.И. Фраермана.[2] Я ничего в ней не понял, надо сказать. Но было интересно, потому что я уловил что-то… это художественный текст всё-таки! Потом я читал толстенный роман «Рыжик».[3] Другое, знаменитое популярное, тоже издавалось, но маленькими сравнительно тиражами, то есть не маленькими — там, 300 тысяч для страны издано — и в провинциальный городишко оно не попадало, а если попадало, то два-три экземпляра. Их мгновенно прикармливали люди, через чьи руки это всё проходило. Поэтому ничего такого не удавалось читать. В библиотеке мне выдали только Жюль Верна «Дети капитана Гранта»[4] и малоизвестный почему-то роман — на меня он очень сильное произвел впечатление — «Пятьсот миллионов Бегумы»[5], их я прочёл с интересом. И еще Марка Твена «Янки при дворе короля Артура». Это и были мои литературные маячки, в сущности. Еще повесть об Александре Матросове[6] Павла Журбы[7]. На школьных литературных и всяких праздничных вечерах читалось много, в особенности впечатлял отрывок из поэмы «Зоя» М.И. Алигер[8]… Читать так, чтобы вникнуть в характер персонажа, в стиль, в постановку проблемы, в чём там дело, — вот это поощрялось, и это было правильно, с этого начался мой интерес к литературе. Потом, на мой 10-й класс, отца перевели во Владивосток из Закарпатья, мы переехали туда летом 1951 года. Во Владивостоке меня больше всего поразило, это я хорошо запомнил, что сама атмосфера жизни там радикально отличалась от жизни русского советского запада, который пережил войну, люди там совершенно другой ментальности были, а я приехал как будто в какую-то захолустную, расхлябанную (понимаете?), не знающую на самом деле, что такое война, провинцию…
Мне хотелось [после школы ехать в Москву] на философский факультет учиться, потому что я этим интересовался больше всего. Этого не случилось, потому что медалисты имели право без экзаменов зачисляться, но была квота, и зачислялись в вузы только те, кто успевал подать документы самыми первыми. В МГУ — а это была только Москва, места заполнялись мгновенно, и то заранее всё было просчитано — конкурсы тогда были 25-30 человек на место, как и во все эти знаменитые вузы; ехать из Владивостока в Москву надо было целую неделю, лететь я не мог, потому что у родителей на это не было средств; и я понял, что мне бесполезно туда ехать. Я обдумывал вариант, что, может быть, надо как-то подучиться, то есть рассчитывать на сдачу экзаменов… Экзамена я боялся только одного – географии. Я её терпеть не мог, потому что не могу запоминать только голые цифры, голую статистику: такая-то область имеет такой-то областной центр, в нём проживает столько-то человек, разные такие-то промышленные предприятия, такое-то сельское хозяйство, такая-то площадь занимается этой областью, этим городом!.. Но это совершенно бесполезно для меня, я такие вещи не перевариваю и не запоминаю, мне надо видеть какие-то причинно-следственные связи… Вот так и получилось, что я не могу ничего решить, не знаю, как мне быть. Я понял, что я никуда поступать не буду, куда бы хотел. Во Владивостоке был только один порядочный вуз — это Дальневосточный политех[9]. И тут я встречаю девочек из моего десятого класса, тоже медалисток. Оказывается, они зачислены без всяких экзаменов в ДВПИ, на горный факультет, на отделение геологии. Я говорю: как? А там, пожалуйста, ты можешь сейчас подавать заявление, там еще есть места… Ну, говорю я себе, как же так?.. Меня соблазнило то, что там хоть будет два знакомых человека на курсе!.. Но я знал, что геология это не для меня, я не люблю бродить по тайге, по горам, нет, я уже попробовал однажды (в 6 классе ходил со старшеклассниками по Карпатам…), с меня этого достаточно было. Поэтому я поступил на другое отделение — горное.
И вот там-то случилась тоже совершенно нестандартная вещь. В школе я математику осваивал средненько, то есть не хватал звезд с неба, с трудом решал тригонометрические задачи. Хорошо помню, у нас в Мукачево собирался весь класс, весь мозговой центр классный работал: искали решения, находили, после этого всем всё раздавалось, все списывали… Ночью сели, утром решение готово!.. Ну, и я точно так же, примерно… А тут меня зачислили без экзаменов, и я прихожу на первую лекцию. Хорошо помню первую лекцию первого дня — это была лекция по общей химии (химию я терпеть не мог в школе, я ее вообще не понимал.) Читать лекцию должна была преподавательница, которая заболела, и ее замещал муж, завкафедрой общей химии профессор Быков[10]. [Он неторопливо взошёл на кафедру, вынул из толстого портфеля толстенный том в красном переплёте, объяснил, почему он будет читать лекцию, и] начал с того, что вот есть такой знаменитый древнеримский поэт Лукреций Кар, написавший поэму «О природе вещей». Потом открывает принесённый том и по-латыни декламирует нам начало. После этого читает русский перевод и объясняет [античной легенды о золотом, серебряном, медном и железном веках].
Вот это меня совершенно потрясло, я хорошо помню. И опять, понимаете, не рационально потрясло — не то, что я там что-то мало понял, раньше ничего этого не знал, меня сотряс самый факт того уровня культуры, который демонстрирует этот человек, в этой своей лекции, [перед нами — невежественными вчерашними школьниками]. И я понял именно тогда, на той лекции, что химия, оказывается, это наука, имеющая свой предмет!.. Надо было пройти всю школу, ничего не понять, потому что учили: запоминайте валентность, а что такое валентность, я в школе так и не понял. И только здесь и теперь я вдруг понял, в чём смысл химии как науки!.. Первая лекция… Учителя, действительно, огромную роль играют [в становлении личности человека]…
Ну, я добросовестно учился, особенно на первом курсе, особенно по всем предметам общеобразовательного цикла. Один из них был геология, минералогия и кристаллография. [Его читал тоже завкафедрой, его фамилии я не помню, человечек ниже среднего роста, щуплый, сутуловатый, читал очень тихо, совершенно не глядя в зал. Студенты издевательски игнорировали его лекции: ходили на каждую по 10-15 человек, по договорённости между собой – чтобы не срывать лекцию явно!.. Для него это было мучительно, но он привык, терпел… А человек был отнюдь не бездарный, даже напротив – у него были аспиранты!.. Просто характера деликатного, и не умел красно говорить…] И он же принимал экзамены. Я, естественно, ничего не мог выучить, [кроме самого фундаментального – геологической истории Земли], потому что надо было освоить учебник, [а там, опять же, одни сплошные классификации кристаллов, минералов!]. Я освоил то, что было мне интересно, во что можно вникать – принципы геохронологии, это история, это понятно… Я хорошо помню тот экзамен: он пришел, раздал билеты, две минутки посидел, сказал: я выйду, пожалуйста, не шумите, подготовьтесь… Собственно, все этого ждали, уже знали, что так он позволяет пошпаргалить, но боялись – спрашивал он дотошно, въедливо! Мне подсунули учебник, я из него выписал, там, по второму вопросу, а первый вопрос – мне попалась геохронология!.. Я пошёл отвечать первый (все упорно не слышали троекратного приглашения!), дрожа, потому что по шпаргалке, в сущности, списанной, надо было отвечать второй вопрос, который я не продумывал. Зато первый вопрос был понятен, и я ему начал объяснять принципы геохронологии. Господи, глазки загорелись! «Хорошо, – прервал он меня и не стал слушать второй вопрос. – Вы по какой кафедре собираетесь идти?» Для меня первый раз в жизни прозвучал этот вопрос. Я никогда на эту тему вообще не думал, и не думал, что можно думать об этом. «Я вам рекомендую идти по нашей кафедре. Я всё сам обеспечу!.. Вы будете писать курсовую у меня». А мне стало страшно неудобно перед ним: я уже тяготился своей учёбой здесь, понял, что это – не моё… [То же случилось и с высшей математикой: в школе она давалась мне с натугой, а тут я воспринимал её с радостным удивлением, что всё понятно, интересно, я легко решаю задачи по матанализу, любуюсь на лекциях обеими лекторшами-профессорами. И на экзамене, боясь, как бы не схватить тройку – неудобно, медалист всё-таки! – получил нежданную пятёрку, да еще и репутацию (позже открылось) обрёл крепкого в математике студента!.. А меня сильно тяготили все предметы технического профиля.] Как только настал второй курс и пошли технические дисциплины, я их освоить не мог, и я окончательно понял, что мне надо оттуда драпать, и переживал все это со страшной силой. Ну, а на втором курсе я уже хвосты получил, так и не смог понять начертательную геометрию…
А тут мне поручили готовить для общеинститутского вечера доклад о советской песне, потому что я музыкой увлекся еще в Мукачево (это своя история интересная). Я поскакал в библиотеку, стал искать журналы «Советская музыка», начал выписывать фамилии композиторов, кто что написал, обдумывать, что это, как это. Прочел доклад, он произвёл большой фурор… Во всяком случае, на этом институтском вечере присутствовало много девушек, студенток из пединститута – в политехе по большей части мужской контингент, девушки тоже есть, но их гораздо меньше, а в пединституте женский контингент вообще подавляющий, и ко мне подошли две моих одноклассницы, теперь они учились на филфаке, это тоской кольнуло меня в сердце. Так и вышло, что в моей жизни тот доклад сыграл, в сущности, переломную роль, потому что я после этого почувствовал, что уже не могу вернуться в политехнический учебный процесс. Не могу и не хочу!
Тут мама, – она всегда меня плотно «курировала», понимала, – взялась обо мне хлопотать, выяснять, что да как: сам я на это не был способен… Она отправилась к ректору пединститута. Он ей объяснил, что зачислить переводом на первый курс нельзя, можно только со второго курса, но он пойдёт ей навстречу, поскольку они знали друг друга по партийной школе (он историк и она историк, и они там были коллеги, – он разрешает, чтобы меня допустили к сдаче всех экзаменов и зачетов за первый курс литературного факультета педагогического института экстерном, а просто зачислялись только три предмета, общие для всех вузов страны: ОМЛ (основы марксизма-ленинизма), физкультура, иностранный язык – всё! Всё остальное надо готовить и сдавать с нуля, и всё – за лето и начало осени!..
[Но я был счастлив, окрылён!] Я явился на первый курс в самую последнюю неделю учебного года. Я хорошо помню то волнующее переживание, когда я присутствовал на последнем занятии по старославянскому языку. Я ничего не понимаю, но для меня всё, что говорится, звучит как музыка! Я просто наслаждаюсь звуками. Я наслаждаюсь тем, как вырисовываются буковки церковнославянские на доске… Эта неделя была еще и зачетной неделей. [При мне трое хвостистов писали диктант; две девочки не написали и были отчислены, а у меня… 4! Ещё успел без подготовки сдать зачёт по новейшей зарубежной истории – опять нежданный фурор на курсе…
Так протекало моё личностное становление – как бы случайно, исключительно на эмоциональных переживаниях, интуитивных стремлениях!] Мои литературные интересы формировались и росли, в сущности, по мере того, как я постепенно наращивал, накапливал свой читательский багаж. Но, оглядываясь сейчас на ту давнюю пору моего взросления, с удивлением вижу, что я читал мало и медленно, но уже с самого начала, как выясняется, с каким-то профессиональным чутьем. Я воспринимал очень эмоционально, непосредственно ту самую пластику – образно-языковую пластику текстов. На меня любое чтение производило очень сильное, глубокое впечатление. Я брал не количеством, а именно качеством чтения. Поэтому получилось так, например, что и в школе я, не осилив романа «Обломов», писал сочинение по статье Н.А. Добролюбова, и все было правильно. В университете, в институте сдавал курсовой экзамен по русской литературе, мне тоже попался «Обломов», и я снова отвечал по Добролюбову и получил свою пятёрку… «Обломова» я прочел только через три года после окончания университета, работая в школе учителем: мне в понедельник давать урок по И.А. Гончарову, а в пятницу я думаю: как же я буду давать Гончарова, если сам не прочел текста? Я в субботу ложусь на диван и начинаю добросовестно читать в полной готовности стерпеть скуку, которой не сумел стерпеть когда-то летом, перед 9-м классом, когда споткнулся об сон Обломова: он мне был абсолютно непонятен, потому что в школе нам это не объяснялось, и я сгорел на первой части «Обломова» – дальше я не читал, мне хватило Добролюбова… И вот я теперь начинаю читать – и у меня глаза на лоб лезут! Всё понятно с первой фразы, глава за главой, а «Сон Обломова» – полный восторг! Я вижу, как весь текст дышит Гоголем! Я был полностью очарован и сотрясен «Обломовым» И.А. Гончарова… Вплоть до того, что впоследствии и вступительную статью к изданию романа в Детгизе[11] опубликовал, а когда мне пришлось обдумывать, какую бы тему для докторской диссертации взять, то очень хотел заняться именно «Обломовым», но не пришлось…
Переезд в Ленинград, ещё раз конкретизируем год, когда это произошло. Какие сложности, возможно, были при переезде? И как дальше ваша научная деятельность складывались?
Мой переезд сюда напрямую связан с моей аспирантурой, потому что переезд состоялся тоже отнюдь не стандартно. Я был послан в аспирантуру как целевой аспирант, причем не сразу, но это в конце концов было оформлено. Я ее закончил без обсуждения на кафедре – не успел дописать диссертацию к положенному сроку. Мне дали отсрочку. Я поехал к родителям в Николаев [город на юге Украины], там полтора месяца безвылазно сидел писал последнюю главу. Оставалась, по моему плану, ещё целая глава, которую я даже не начинал. [Вернувшись в Ленинград,] я приехал к Григорию Абрамовичу Бялому [12] и говорю: «Григорий Абрамович, я ничего не успел, вот только одну главу ещё написал». Он говорит: «Оставьте, я быстренько посмотрю, позвоните мне через день… [Я позвонил, приезжаю к нему]. «Ну, что же, говорит, прекрасно, диссертацию можно подавать на обсуждение». «Как, Григорий Абрамович! У меня же целой главы нет! Не знаю, что делать!..». «Да? А вы кому-нибудь говорили об этом?». Нет, говорю. «Так вот, похороните это в глубине вашего сердца. Если вы сам никому не скажете, то никто, уверяю вас, об этом не догадается» …
Григорий Абрамович – это удивительный человек, но о нем особый разговор должен быть… Мою диссертацию обсудили, [рекомендовали к защите, и] я вернулся во Владивосток, а осенью я ее все-таки защитил… Всё, никакой Ленинград мне больше не светил! А потом у меня случилась дома семейная трагедия. Я из Владивостока уехал к родителям на Украину, в Николаев. Я там стал работать в институте. Через год после этого Г.А. Бялый пишет мне туда о том, что, мол, вы прошли по конкурсу на нашу кафедру. «Как, по конкурсу? – спрашиваю я. – Я же ничего не готовил, не подавал документов!» «Мы оформили, – был ответ. – Приезжайте». То есть, они меня, своего аспиранта, решили залучить на кафедру сами. Я не хлопотал об этом, я даже не мог об этом мечтать!.. Меня из Николаева не хотели отпускать: меня только что сделали там заведующим кафедрой русской литературы, в педагогическом институте Николаевском, разделили кафедру литературы на две – украинской литературы и русской литературы, потому что появился человек, [то есть я,] на которого можно повесить русскую литературу. И вдруг он уезжает?! Меня [упорно] не хотели отпускать, там опять мама хлопотала, в горкоме партии… Так что это было вот такое [нежданное,] подарочное приглашение: меня провели решением кафедры, состоялось решение ученого совета[, еще в начале] лета 1974 года, но меня всю осень, до самого Нового года и дальше, не выпускали из Николаева, поэтому запланированная моя учебная нагрузка была распределена здесь между другими преподавателем, а я явился только в начале февраля или в середине января 1975 года, как раз уже сессия шла первого семестра, поэтому вся моя нагрузка уже была распределена, и оказались у меня хорошие [такие, долгие] каникулы… Тут и случилась моя вторая женитьба, и прекрасный отдых и всё прекрасно!..
Я начал работать в Ленинградском университете с 1975 года, читал основной лекционный курс –истории русской литературы середины XIX века. [Надо сказать,] в отличие от общей министерской программы для филологических факультетов, где литература XIX века делится на два периода – первой половины и второй половины, только ЛГУ, наряду с МГУ (если говорить об РСФСР), имели право сами составлять свои [учебные планы и] программы [лекционных дисциплин].
[Как сказано,] я пришёл работать [в ЛГУ], можно сказать, по приглашению. Но чем было вызвано это приглашение? Правильно говорит нынешний очень проницательный историк Андрей Ильич Фурсов[13], что политология – это фальшивая наука, потому что она занимается внешними фактами, а политические процессы определяются внутренними факторами, о которых внешне никто не пишет. Так и здесь были свои соображения; зачем именно меня и почему меня пригласили – я об этом ничего не знал, лишь позже стал догадываться, но это уже совсем другая история, совсем не для сегодняшнего разговора… Главным лектором по курсу литературы середины XIX века был на кафедре Ямпольский Исаак Григорьевич[14], он читал его традиционно [на русском отделении]. А я поэтому читал не русистам, а всем другим – славистам, журналистам из года в год, [на других отделениях], кроме стационарного русского. А на русском отделении, на стационаре, мне сразу поручили читать курс введения в литературоведение, то есть теоретический курс. Причем, слава Богу, именно в ЛГУ можно было читать этот курс по своей программе. Я познакомился с той программой, которая сочинялась еще Виктором Андрониковичем Мануйловым[15], он читал, еще другие до меня, но я создал свою программу, по ней и читал [впоследствии] филологам и журналистам. Они меня и помнят [с тех пор]. Вот так это состоялось…
Я должен сказать, что кафедра, которую я успел застать еще в том [19]64 году, когда я вообще впервые приехал сюда как стажер, [была уникальным культурным явлением]. Четыре месяца я ходил на лекции Г.А. Бялого [по русской литературе последней трети XIX века и Г.П. Макогоненко[16] по литературе первой трети XIX века,] работал в Публичной библиотеке, начитывал [то, чего вообще нельзя было найти во Владивостоке]. Мне[, по плану стажировки,] должны были определить тему диссертации, а следовательно, связанную с ней тему кандидатского экзамена по специальности. Я впервые вообще окунулся в научную, учебную, университетскую жизнь крупного культурного центра. Притом Петербург (Ленинград) был, конечно, один из самых крупных культурных центров страны. И я очень быстро уловил, – тогда же мне объясняли, надо было не просто услышать объяснение, а понять суть, и я понял, – что действительно, в советском литературоведении постепенно, в течение 1930-1940-х годов, сложилось два течения [и в области] истории литературы, и в теории литературы – московская школа и ленинградская школа, и я понял, что такое ленинградская школа в отличие от московской школы, Уловил очень быстро и с глубоким продуктивным результатом для себя: мой университет настоящий состоялся именно тогда, во втором семестре 1963/64 учебного года здесь, на филологическом факультете , вот так.
С аспирантурой тоже всё было очень любопытно, когда в [19]64, во время стажировки, мне должны были через протокол кафедральный утвердить тему кандидатской диссертации, ну и соответствующего кандидатского экзамена. Летом 1962 года у нас в ДВГУ на кафедру русской и зарубежной литературы – это я хорошо помню, потому что только что, весной, начал работать в университете по приглашению, как бывший выпускник кафедры с красным дипломом, и, не имея жилья во Владивостоке, обитал прямо в помещении кафедры, – появились трое ребят, выпускников ЛГУ, которые по распределению приехали в Приморье на год, чтобы потом, отработав год в школе, как положено было тогда, могли поступать в аспирантуру*. [Ленинградская] кафедра их уже в аспирантуру рекомендовала, но поступать они не могли, не отработав год в школе по распределению. Вот они тогда появились во Владивостоке, и мы познакомились там. В их числе был Юра Юдин[17], знаменитый ученик Проппа Владимира Яковлевича[18], потом он станет в Курске и заведующим кафедрой литературы, и деканом факультета литературного, и создателем нового факультета начального школьного образования… Мы [с ним и] познакомились [тогда во Владивостоке], он мне сказал: знаешь, надо поступать не в Москву, что ты о Москве всё думаешь? У кого ты там собираешься учиться? Учиться надо в Ленинграде, у нас… Это впервые я тогда услышал [о Ленинграде], я так [о нём] не думал никогда. Ленинград был загадкой[, легендой, чем-то почти нереальным]… Я, говорит он, напишу Владимиру Яковлевичу [Проппу]. И написал! Я только попросил: пусть он мне всё объяснит, что и как поступать. Они, сказал он, не любят, когда ты приезжаешь к ним без своих тем, ты должен обязательно предложить свои темы. Только такой человек, который уже сам себя сориентировал, – только такой человек для них вообще может быть интересен… Я помню, как сочинял темы, да, – по «Подростку» Ф.М. Достоевского, и Леонид Андреев[19] меня интересовал, и [И.А.] Гончаров интересовал, всё, – я шесть тем предложил… И не получил никакого ответа! Потом, когда приехал на стажировку, зимой, это был снежный февраль [уже 1964 года, я узнал почему… Как Ленинград] как меня тогда поразил! Еду я из аэропорта в город, а я никогда в жизни здесь не был, смотрю, над городом нет никакого смога. Всё, никаких дымов, город [сказочно] экологически чистый. Это было потрясающе! И что такое была его культура того времени! Я был потрясен: [на прилавках] фрукты, цитрусовые, колбасы всевозможные, невиданные сыры, чего нигде в стране нельзя было увидеть просто так [в таком изобилии… Расскажу], как мне [на кафедре] сочиняли тему: собрались И.Г. Ямпольский[, Г.П. Макогоненко] и Г.А. Бялый, [уже согласившийся, по моей просьбе и по заступничеству В.Я. Проппа,] отошли в сторонку, и я при них стою, просто так присутствую. Они между собой [разговаривают,] меня не замечают, обсуждают темы. [Наконец, оборачиваются ко мне:] «Ну вот, как вам – «“Зимние заметки о летних впечатлениях”[20] Ф.М. Достоевского»? – и все трое с интересом наблюдают за моей реакцией. Я про себя тихо крякнул, потому что слыхом не слыхал, что у Достоевского есть какие-то «Зимние заметки…». [Но делать нечего, я согласно киваю головой. Им, видимо, понравилась моя решимость, и они оживлённо стали обсуждать формулировку. Слышу:] «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского и тема России Запада в русской публицистике 1860-х годов… Нет… второй половины XIX века, как ему нравится… О, прекрасно! Всё!.. [И снова вопросительно оборачиваются ко мне: мол, как вам?.. Что мне оставалось?] Я согласился, конечно, принять тему.
На следующий день я с утра бросился в публичку[21] читать Достоевского. Загибаюсь от возмущения! Это ж Достоевский там против моего возлюбленного Н.Г. Чернышевского какие бочки катит! И как это так?.. То есть, я был просто сотрясен: я никогда ничего подобного не читал! Я не мог совладать со своими чувствами, разобраться в своих мыслях, но я понял одно: это – анти-Чернышевский!.. Успокоившись, стал думать: ладно, тема очень интересная, но как же мне заниматься ею во Владивостоке? Тему-то мне надо для заочной аспирантуры всего лишь… Но дальше я не стал об этом думать. Мне вчера сказали, что темы, которые я в письме предлагал, это темы статей, но не диссертации… Я тогда впервые должен был задуматься: какая разница между темой диссертации и темами статей?.. Крепко задумался я тогда *.
Тогда же, вечером на кафедре, обсуждать взялись и тему кандидатского экзамена, и тоже заботливо, благожелательно:* Да, да, давайте мы сделаем так: у нас принято принимать в два этапа кандидатский экзамен – общий кандидатский и специальный кандидатский. Давайте мы ему в виде исключения сформулируем тему, соединяющую в себе и общий, и специальный кандидатский экзамен… Я потом выяснял, какая разница между общим и специальным экзаменами. Оказалось, что общий экзамен – это экзамен по всему тому периоду, к которому относится тема, а специальный – это вокруг, собственно, самой этой темы. Да-а, и тут они мне сформулировали!.. [Г.А.] Бялый [предложил] мне; выбирайте, либо русская проза второй половины девятнадцатого века, либо русский роман второй половины девятнадцатого века. Я уже начитал [кое-что], знаю, что проза – это беспредельно, а роман – [как раз в журналах] есть дискуссия [о романе: это литературный жанр или литературный вид –] значит, лучше роман выбрать, потому что тут, во всяком случае, граница понятна… Я роман выбрал. Это уже потом для меня стало предметом большого уныния и даже своего рода обиды [когда я сообразил:] как же так? Они мне предлагают тему экзамена, которая требует [сплошной] работы в библиотеках. А какие библиотеки во Владивостоке? Как я могу, там сидя, готовить этот экзамен? Где я буду брать это чтиво? Где?! Как же можно давать тему, которая практически неосуществима в тех условиях?!! Но я не стал возражать.
И вот, вскоре потом оказалось, что жизнь повернулась так, что не только к экзамену я смог подготовиться, но и в целевую аспирантуру меня отправили. Для аспирантуры надо было написать и представить реферат.*
Не обязательно по теме самой диссертации, которая уже утверждена. Почему? Потому что реферат – это демонстрация того, на что ты вообще способен. Я мысль о нём отложил. Готовился к экзамену по специальности. Прочел всего И.С. Тургенева, всего А.И. Герцена, успел половину В.Г. Короленко[22] и других, тех, кого читал мало, или давно, или совсем не читал. Но, не важно, всего не рассказать… Важно, что я этот экзамен сдал, а через год приехал поступать в аспирантуру. Надо было сдавать вступительный экзамен. И опять, – вот как удивительно, – по каким-то маленьким, казалось бы случайным, подсказкам, которые можно и не заметить, я успевал почему-то заметить… опять же, я себя похвалить за это не могу, как-то оно случалось само собой… мне подсказали: имей в виду, будешь готовить И.С. Тургенева, надо обязательно (это по каждому писателю!) читать главное, что писалось членами кафедры, не только теми, кто сейчас в них работает, а вообще работавших на кафедре (я и читал), – но имей ввиду, когда будешь И.С. Тургенева готовить, не забудь А.Б. Муратова[23]!.. Он тоже только что закончил аспирантуру в ЛГУ, но он и учился здесь, он внучатый племянник К.Д. Муратовой[24]. Он ещё студентом, в курсовой работе по роману «Дым»[25], обнаружил прототип главного героя – Н.П. Огарёва, и доказал, что фамилию героя романа надо читать не Гу́барев, а Губарёв. Об этом действительно никто в литературе не писал. Г.А. Бялый, его научный руководитель (а теперь – и мой!), ему подсказал работать над этой темой дальше. Он написал о «Дыме» и дипломную работу, а потом развернул эту тему в кандидатской диссертации – поднял все источники, нашёл все соответствия, опубликовал маленькую, но яркую монографию по своей диссертации. Вот если ты (подсказали мне) эту кандидатскую муратовскую не прочтёшь, тебя на этом поймают… И точно, я прихожу на экзамен, там сидит вся профессура, и А.Б. Муратов ходит, раздаёт те самые листочки для написания ответов, сочиняет вопросы для сидящих аспирантов. Мне с хитроватой улыбкой предлагает: Тургенев после «Отцов и детей» – в самый раз по своей монографии, новинке в то время!..*
После того как меня приняли в аспирантуру, я прихожу на первую консультацию к Г.А. Бялому, он меня спрашивает: как же вы планируете построить свою работу над темой? Я говорю: вы знаете, Григорий Абрамович, я не могу этого сейчас сказать, потому что я еще не читал ничего из того материала, на основании которого можно её писать. Я только собираюсь это читать. «Да-да, у вас же какая тема?» Вот такая, говорю. «Да, тема широкая… но я думаю…» – А я же написал реферат свой по Н.Г. Чернышевскому, но не по роману, но прописал анализ самой первой дневниковой записи Н.Г. Чернышевского, студенческой еще, 1846 года, только-только он приехал в Петербург, поступил в университет. Жил он тогда на одной квартире с однокурсником, о нем-то и написал маленький отдельный мемуарчик, еще до всех других своих дневников. – «Ведь вас, на самом деле, Н.Г. Чернышевский интересует? Так почему же вам не взять тему по “Что делать?”… – Как, говорю, а разве это возможно? Тема уже утверждена… «Ну, как утверждена, так можно и переутвердить. Подумайте». Я говорю: это было бы прекрасно, потому что это мне страшно интересно! (я не верил своим ушам…) – «Ну, давайте подумаем… давайте-ка сформулируем как-то так… Художественное своеобразие романа, а?.. Ведь на эту тему никто ничего не сказал… порядочного?.. (Г.А. ничего никогда не утверждал категорично, но как бы спрашивал: вы согласны, не правда ли?..) Я, радостно замерев, киваю: да, точно, никто ничего не сказал. – «Ну, так и возьмитесь, раз вам это интересно, у вас анализ сделан в реферате, вы можете анализировать… пишите, а тему сформулируем позже».[26] Я что-то начал бормотать о «художественном методе», эта тема меня очень интересовала тогда, и дискуссии шли острые, но Г.А. Бялый посмотрел на меня таким лукавым взглядом, потому что художественный метод – это пахнет Московской школой, а не Ленинградской… *
Вот так я занялся Н.Г. Чернышевским профессионально. Он сопровождал меня по жизни если не со школы, то с тех пор, как я стал учиться в пединституте, тогда можно было покупать разрозненные тома его собрания сочинений, они все продавались, кроме двух, выпущенных до войны, и то я купил один, я их читал подряд, он меня сразу потряс, а чем именно, я только теперь могу сформулировать… Дело в том, что Н.Г. Чернышевский, как романист, не понят до сих пор, и только потому, что вся негативная атмосфера, сложившаяся вокруг его романа, настраивает читателя на кривое восприятие его идей. В романах чистых идей не бывает, там бывают только идеи художественные, выраженные не прямо. Считается, что Чернышевский плохой романист, или так, средненький, потому что он слишком явно декларирует свои идеи. Но моя диссертация вся построена на том, что как раз показывает, что у него, так же как у любого другого художника, то, что он высказывает, – это игра с читателями и с критиками, игра тонко рассчитанная и блестяще облечённая в фарсовую стилистику. Но только теперь, буквально теперь, я понял, в чем дело. Раньше, в более поздней докторской своей работе, я показал, что Чернышевский задействовал в «Что делать?» не воспринятую до него английскую жанровую традицию «учительного», или деструктивно-конструктивного романа Г. Филдинга, Л. Стерна, У. Теккерея. Но теперь только я понял, что на самом деле Чернышевского надо воспринимать, как романиста, еще и в другом литературном контексте. Он, как художник, на полвека раньше состоялся: он – первый, не только в русской, но и в европейской литературе, «модернист» в самом точном, буквальном смысле этого слова. Роман «Что делать?» – это, по своей жанровой стилистике, авангардистский роман, которому было время появиться только в начале XX века. Это роман, который по художественным своим особенностям может стоять рядом, извините, с «Мелким бесом» Фёдора Сологуба и «Петербургом» Андрея Белого!.. Если его читать незашоренными глазами – у вас глаза на лоб полезут, потому что это, оказывается, – да, да! – это игра с читателями, причём глубоко утонченная эстетизированная игра, а всё, что он там «учительствует», это как раз его маска!..
И вот только теперь я могу чётко сформулировать одну важную мысль – что единственным современным Н.Г. Чернышевскому читателем, который понял эстетический нерв его романа, был Фёдор Михайлович Достоевский! Вот он понял и Чернышевского, и его роман, и об этом нигде не написано!.. В моей диссертации докторской есть глава, – но её никто не читает, – там это высказано еще не категорично, в виде предположения, в виде гипотезы, а на самом деле это именно так и есть!..
Ф.М. Достоевский в начале 1863 года, с февраля, публикует свои «Зимние заметки о летних впечатлениях» – блистательную критику западной социалистической идеи – как идеи буржуазной, и тем самым критику русской социалистической идеи, самым последовательным пропагандистом которой в России и был Чернышевский (до него и к тому же из Лондона – Герцен)… Февраль, март, апрель. Роман «Что делать?» начинает публиковаться в том же [18]63 году с марта – Достоевский опережает Чернышевского всего на месяц: он опубликовал только начало, подготовил продолжение – центральную часть своих «Зимних заметок…». И в это время появляется первая треть романа «Что делать?». Он читает… и она его шокирует! Подтверждается абсолютная актуальность, горячая актуальность «Зимних заметок…»!.. Он пишет и печатает третью часть, и она последняя, ею заканчиваются, на ней обрываются «Зимние заметки…». А параллельно Чернышевский публикует центральную часть романа, это как раз третья глава, самая «социалистическая», та самая – «рахметовская»!.. Достоевский понимает, – этого нельзя было не увидеть, – что вся проблематика проповеди социализма у Чернышевского, не только проблемно, но логически, даже в последовательности мотивов, повторяет логику опровержения социализма, развёртываемую им в «Зимних заметках…»! Это Ф.М. Достоевскому это не могло не показаться знаком Господним. Он, он, критикующий социализм как буржуазную идею, он развертывает, казалось бы, сокрушительное опровержение всего этого – и вдруг параллельно вырастает роман, в котором эта же идея пропагандируется и логически доказывается… не только логически!..
Вот, именно и только Ф.М. Достоевский уловил своеобразие, неповторимое, уникальное своеобразие художественной маски Н.Г. Чернышевского – «автора» «Что делать?». Он один понял, что никакая голая логика опровержения социалистической буржуазной идеи не работает. Он обрывает публикацию «Зимних заметок…». Он увидел, что социализм можно опровергать только теми же средствами, которыми он пропагандируется. Тогда, по-видимому, и рождается маска «подпольного» героя Ф.М. Достоевского. Этого никто не понимает до сих пор!
Если бы Н.Г. Чернышевского поняли как художника-новатора – «авангардиста», как станут говорить через полвека!. При этом он не просто травестирует что-то известное, всем знакомое, а он одновременно вносит новую традицию – единственную западную романную традицию, которой русская литература еще не усваивала! То есть, Н.Г. Чернышевский – это, в известном смысле, центральная, переломная фигура в русском литературном процессе XIX века. Потому что у него задействованы, между прочим, все традиции современного ему русского романа, ведь там характеристика так называемых «новых людей», она вся решена в эстетике «натуральной школы», которая уже была устаревшей к началу 1860-х годов. Понимаете, натуральной школы И.С. Тургенева[27], И.А. Гончарова[28], А.Ф.Писемского[29],Д.В. Григоровича[30], а в особенности Ф.М. Достоевского[31] и Я.П. Буткова[32]. Они ее обозначили, утвердили и переросли, отодвинули в историю. А Чернышевский как бы возрождает: он именно приемами натуральной школы характеризует своих «новых» героев, возвращает принципы раннего реализма, в узнаваемом виде, но идейно переориентированном виде. Вот всё это и понял Ф.М. Достоевский – понял как нечто актуальное, злободневное, горящее, жгучее, с чем надо было с этим бороться страстно, бескомпромиссно… Это и зафиксировано, начато им в «Записках из подполья». А мы сегодня пережили уже всё – и Н.Г. Чернышевского, и Ф.М. Достоевского, и Л.Н. Толстого, и вообще всё! Они все для нас уже история. И нам надо начинать понимать всё это заново, понимать, что они все стоят рядом друг с другом, великие творцы великой русской культуры!..
Вот, про преподавание в университете. Ощущался ли идеологический прессинг в преподавании? Повлияли ли на Вас труды, например, Ю.М. Лотмана того же самого, который в 70-80-е годы писал?
Юрий Михайлович Лотман — ученик Ленинградской кафедры истории русской литературы. Он же выпускник ЛГУ, его на кафедре и знали, и помнили, и структуралистские тартусские сборники – Ученые записки читали… Но не я! При мне о нём как-то и разговоров особенно не вели. Но не потому, чтобы меня как-нибудь опасались, – он, я вам скажу, как раз когда я диссертацию кандидатскую писал, а потом защищал, – он мне вовсе был еще неизвестен! И не почему-либо, а просто потому, что для меня время моей аспирантуры в ЛГУ, моих каждодневных сидений в Публичной библиотеке… её, кстати, очень неудачно сейчас переназвали Российской Национальной библиотекой – этак обезличенно, стандартно, по-западноевропейски, я бы сказал!.. но не в этом суть… – то было время для меня, выпускника заурядного, в сущности еще глубоко провинциального университета-новодела, настоящего университетского образования! И что там – о ком, о чём, чего я еще не знал, о чём слыхом не слыхал – ничто это меня не задевало, не интересовало: мне было недосуг во всё это вникать – мне бы со своей диссертацией как-нибудь справиться!.. По этой диссертации потом, через восемь лет после моей защиты в 1971 году, вышла моя первая монография, но в ней нет одного раздела, который есть в самой диссертации. Я там расписал весь текст главы о Рахметове по мотивам, полностью один за другим, и как они друг с другом соотносятся. Это было в виде таблицы такой, дотошной, многостраничной – предложение за предложением, эпизод за эпизодом, всю хитроумную вязь Чернышевского разложил по полочкам и уловил-таки, что и зачем он всё это написал так, как это сделано у него… А научная организация, поддерживающая диссертанта, была Саратовский университет. Диссертацию читал и подписывал отзыв прямо на мою защиту Евграф Иванович Покусаев[33], авторитетный человек в тогдашнем литературоведении, он заведовал кафедрой русской литературы в СГУ. Я поехал за этим отзывом сам в Саратов, впервые оказался там… Он меня принимает в своем кабинете… это было лето, еще время отпусков… а моя защита была поставлена на начало сентября, на первое или второе заседание Совета!.. И вот он меня допрашивает: а что это вы тут сочинили насчет Рахметова? Что это за таблицу вы предложили? – Я говорю: ну, как?.. мне надо было показать, как соотносятся мотивы, как это строится… Он на меня смотрит лукаво: Да? А вам не кажется, что это Лотмановское влияние? А я имени Ю. М. Лотмана не слышал!.. Его все знали, но о нём не разговаривали ещё, понятное дело… Вот я и говорю: Нет, слыхал, конечно! (почти врал: в тот момент только и вспомнил что, точно, слышал это имя, и даже в связи с чем!) …но Лотман – это… структура… (слово-то еле вспомнил, не мог бы и объяснить тогда, что́ оно означает). — Вот именно! А чем же ваш Рахметов отличается от структурализма Лотмана?! Меня спасает моё дурацкое простодушие. — А я, – говорю, – вот, я… вообще не читал ещё (Лотмана). — Как, не читал? — Ну, не читал, – говорю, – не дошли руки… (Немая сцена, долгая пауза…) — Ну, ладно, – говорит (…такого простака, как я, надо было еще поискать!..) – я подпишу отзыв. Но помните, игры со структурализмом – это очень опасные игры, очень неправильные игры!
Ну вот, после этого я заинтересовался, естественно, и начал читать Лотмана – как раз стали выходить, именно в это время, в 1972-1973 годах, его монографии. До этого их не было. Их я и читал, и понял. А понял, я вам скажу что́, – потому что в это же время издали сборничек Р.О. Якобсона[34], а Романа Якобсона считают классиком структурализма, предшественником современного структурализма: – стоило русскому ученому [Лотману] заняться этим новым западным трендом, структурализмом, чтобы в нём стал проявляться смысл, только тогда он начал выясняться! Они – Роман Якобсон и все эти прославленные западные литературоведы-структуралисты – сами этих смыслов генерировать вообще не способны. Вот так! Это вообще свойство русской культуры: только она что-нибудь усвоит оттуда, так сейчас же и выясняется, а что же оно (что угодно!) на самом деле в себе несет и какую задачу положительную решает!..
Вот что такое русская литература, русская культура, русская наука! Всё это потрясающе...
Потому что западный тренд, всегдашний, внутренний, существенный, состоит в абсолютизации всего. Всего, чего угодно. Только что-нибудь явится – тут же идёт абсолютизация. Отсюда все эти их социализмы, демократизмы, парламентаризмы, либерализмы - всё что угодно!.. И война – уже довольно-таки крайний порог. Дальше идти некуда, развиваться некуда, эволюционировать некуда. Всё из себя выжили – и теперь начинают разлагаться. Мы – мешаем…
Очень интересно! Давайте теперь поговорим о кафедре, созданной в 1996 году. Кафедра западноевропейской и русской культуры.
Я вам скажу, опять, тут нет никакой моей личной инициативы, это Игорь Яковлевич Фроянов[35] сообразил, что рухнул СССР, рухнул марксизм в
в своем догматизированном виде и, значит, правильно, туда ему и дорога.
Фроянов это давно понял как историк, потому что никакого «феодализма» в западном смысле в России не было и быть не могло. Он об этом уже написал к тому времени. И он понял, что если сейчас, уже с конца 1980-х годов, в моду культурология вошла, а у нас философы уже устроили у себя тоже кафедру культурологии, то надо и историкам России реагировать на этот тренд. Но культурология – это философская не столько научная дисциплина, какой себя горделиво позиционирует, сколько поверхностная болтовня о культуре, которая ни на что не опирается, а фундаментальной опорой для глубокого теоретического изучения культуры может служить только история культуры… Он тут же инициирует на своем ученом совете создание новой кафедры истории западноевропейской и русской культуры – не вообще культуры, но именно западноевропейской и русской…
Вот тоже тут сейчас перебью. Вопрос: почему русская, а не отечественная культура?
А что такое отечественная? Отечественная - это значит, что надо различать: мол, есть русская культура, а есть еще какая-то – украинская культура, узбекская культура, еще какая-нибудь… мусульманская… Ничего подобного! Русская культура – это не этническое понятие, это понятие сугубо ментальное и именно философское.
И.Я. Фроянову надо было найти заведующего, потому что новая кафедра – это прежде всего заведующие, которые начнут ее собирать. Он было предложил заведование Ю.И. Юдину.[36] Они друзья со времён аспирантуры, жили в одной комнате в общежитии в Петергофе. Потом они писали совместные труды, издали несколько, две или три монографии. Юдин рано умер, он как раз умер тогда, когда именно под него Фроянов сочинял свою новую кафедру. Процедура эта проходила в 1994 году, а в 1995 году Ю. И. Юдин умер внезапно, скоропостижно, вообще прежде времени, он был еще молодым человеком. И вот у И. Я. Фроянова проблема: кафедра уже обозначена, уже создана на бумаге, она, а кто теперь будет её создавать?.. И.Я. Фроянов обращается к человеку, который действительно мог бы ее возглавить. Это тоже его друг хороший; издавна знакомые, они друг другу читают по телефону то, что пишут (статьи, фрагменты монографии), обмениваются впечатлениями, мыслями, обсуждают свои научные идеи, изредка встречаются - это Ветловская Валентина Евгеньевна[37]. Но Ветловская сугубо филолог, ей неинтересно распыляться, переключаться на культуру, она отказывается, и отказывается наотрез. — Как же быть? — А вот бери Руденко… Фроянов просит её поговорить со мной, звонит мне (а мы были знакомы только через Юру Юдина). Я говорю: да не знаю, было бы интересно, но я ведь тоже в этой области тоже дилетант… смогу ли?.. да и кафедру создавать – как, когда, что за кафедра?.. Ветловская, увидев, что я всё-таки обдумываю идею, тут же даёт мне телефон Фроянова-декана и советует позвонить ему: тебя же никто не заставляет соглашаться!.. а что да как – он тебе и объяснит…
Я позвонил. Он просит прийти к нему на факультет для разговора: что, де, по телефону скажешь!.. — Ну, – немного робею я от его напора, мягкого, но делового, – я не знаю… — Всё же давайте встретимся. Приходите ко мне, когда сможете.
Одним словом, мы договорились о встрече. Прихожу к нему на факультет. Он мне коротко, внятно, чётко изложил суть своей задумки. Я говорю ему: Игорь Яковлевич, я никогда этим не занимался! Я не чувствую себя достаточно эрудированным профессионально, чтобы поднимать такого рода кафедру. Кроме того, самое главное, чего я не понимаю, это границ: культура – это всё, культура – это всегда. Где границы?.. — Как же, – говорит он, – а у нас название указывает границы – западноевропейской и русской культуры! Я настаиваю: какие же это границы? по-прежнему неясно, что брать, что не брать, что изучать, а что можно опускать?.. — Дело не в границах, – возражает он, – и не в отборе материала… больше, меньше – это вы легко решите, а дело в цивилизационном взаимодействии! противостоянии и взаимодействии, взаимовлиянии. — Я понял, – отвечаю ему, – но я не готов к этому, это еще более трудная задача, она требует не только любительской начитанности, но и более глубокой теоретической подготовки, я никак не могу согласиться. Как это легкомысленно решаться на такое? Как я могу ее создать, такую кафедру? Я никого не знаю, я ни с кем не связан из специалистов, я даже не знаю, где их искать!.. — Верно, – говорит он, но надо же кому-то начинать! — Надо начинать, – говорю я. – Но я не могу согласиться, не чувствую себя в силах... И даже поднялся уходить. Он искренне возмутился, – это на него не похоже, он очень редко позволял себе вслух возмущаться, – он мне в спину кричит: — Так всякий будет отказываться! всякий не хочет заниматься! А дело делать будет кто? Дело важное, нужное – бери и трудись… а ты уходишь!.. — И, – говорю, – Игорь Яковлевич, что вы на меня кричите? (Он как-то сразу переломил моё настроение.) Ну, хорошо, я соглашусь… Но у меня одно условие: я буду сам подбирать кадры!.. (Это потому, что перед тем он мне сказал, что на кафедру определит одного своего профессора, со своей кафедры – Немиро, был такой профессор, Олег Владиславович Немиро, искусствовед, он занимался придворными праздниками, особенно коронационными, его он решил передать сюда на кафедру: будет, мол, у тебя уже первый профессор – сам я еще не был профессором, доктором уже был, а профессором не был).
А остальных преподавателей действительно я начал искать сам. Была еще весна, он только меня представил факультетскому ученому совету. И я должен был до начала нового учебного года (1995/1996) составить учебный план, а уже по нему найти кадры. Причем, здесь облегчилась задача чем? Учебный план, конечно, надо было продумать систематически весь. Но набор на кафедру – только один первый курс будет! профессора или преподаватели, кто нужен? – только те, кто будет читать курсы, предусмотренные учебным планом первого курса! Перейдут студенты на второй курс – будет новая порция учебного плана, тогда и новые люди понадобятся – так Фроянов меня сразу успокоил: будет еще целый год – ищи, найдешь – будем утверждать…
Так оно и случилось на самом деле. Я стал работать над учебным планом, разработал его. Самая большая трудность состояла в том, чтобы уплотнить, уложить учебный план в ту сетку часов, которая отпущена кафедре факультетским учебным планом. Это же по кафедре план специализации только: все общеобразовательные курсы, всё, что читается для всех, оно идёт и для нас, а нам отпущено малое количество определённых лекционных часов, семинарских часов, практик, ещё чего-то, элективных курсов. Поэтому вся моя задача состояла в том, чтобы к сентябрю обеспечить всего двух новых преподавателей: того, кто будет читать Введение в специальность, и того, кто будет вести библиографию.
Я совместил обе задачи: учебный план прописал в его желательных пропорциях, а главное – срочно стал икать двух немедленно нужных преподавателей. Я нашёл Гелиана Михайловича Прохорова[38], – мне почти сразу порекомендовали именно его: он уже был доктором филологических наук, а кончал ЛГУ по кафедре истории Средних веков, владел древнегреческим, латынью. Он работал в Пушкинском доме. Он был византинист, – великолепный, он был переводчик, издатель, комментатор. В его переводе изданы, между прочим, сочинения Дионисия Ареопагита[39]. Вообще, он ежегодно уезжал на месяц-полтора в Северную Италию, где-то там, в каком-то католическом монастыре, они [итальянские, немецкие византинисты] работали со средневековыми источниками, переводили, комментировали, издавали. И тут, [когда он согласился работать у меня на новой кафедре своего родного истфака – подготовить курс «Введение в историю западноевропейской и русской культуры»,] случился очень интересный курьёз. Я говорю ему: «Надо составить учебный план курса. Он говорит: «А я никогда не составлял, я не умею…». Я узнал себя в нем! Я только что сам был в таком же положении перед Фрояновым – внушал ему, что не умею составлять учебный план, теперь он мне внушает!.. Я говорю: «Вы делайте, покажете, составим вместе, только обязательно надо сделать, потому что без этого нельзя начинать». Он мне составил, смотрю – оно никуда не годится, абсолютно (я почему-то помню именно так). Я говорю: «Ну, Гелиан Михайлович, ну что ж вы пишете, – надо вот конкретизировать, с какой темы вы начнёте, какой продолжите, у вас же всё в голове уже есть, я же вас ничем не связываю, вы же будете читать то, что вы знаете и считаете нужным, я же вам ничего не диктую, я этого не знаю – вы знаете, ну так делайте, как вы это знаете, можно всё, что нужно, по вашему мнению…». И когда он мне представил этот свой новый вариант учебного плана, у меня глаза на лоб полезли!.. Я ведь раньше не читал ничего из того, что он писал до этого. Мне просто порекомендовали его как человека, который способен такой курс поднять… И вот читаю я: «крестообразность времени» (культурного). Думаю: «Боже мой, какая идея великолепная! Как всё правильно!..» Читайте, говорю ему. [И это был великолепный университетский курс! Идея крестообразности культурно-исторического времени зрела у Г. М. Прохорова давно, и он даже где-то печатно высказал её, но только теперь, только в нашем кафедральном лекционном курсе, он её и прописал по-настоящему, и конкретизировал, и аргументировал, и сумел зажечь ею студентов!..]
А Татьяну Григорьевну Иванову[40] мне тоже просто выискали в Пушкинском доме… Почему? Нужно было совместить, с одной стороны, специалиста-библиографа, а с другой стороны, она, извините, и фольклорист великолепный! И она читала у меня лекционный курс «Русский и славянский фольклор», – я тот фольклорный курс растянул на целый год – на два семестра: она с семинарами, с курсовыми работами великолепно его вела! Так и пошло дальше[, а я ведь первоначально не планировал развёртывать его так основательно! А вот же: нашёлся замечательный специалист, великолепный педагог, и явилось прекрасное решение. Татьяна Григорьевна потом лет десять, если не больше, даже и научно-педагогический тонус кафедры поддерживала на этой своей предельно высокой планке!..
Дальше пошли музыкальные курсы [курсы по истории музыкальной культуры]. Опять надо искать преподавателей-специалистов. Это буквально через год, следующим летом, мне надо найти преподавателя! Причём, русская музыка пойдёт позже, а западноевропейская музыка сразу должна идти. [Как быть?] Я звоню Чернушенко Владиславу Александровичу[41]. Он, во-первых, директор Санкт-Петербургской певческой Капеллы и, в то время, ректор Петербургской консерватории, знаменитый дирижер, я его знаю только как слушатель, потому что хожу на его концерты, к тому же он беспрерывно гастролирует! А тут вдруг я, до тех пор всегда сидящий в зале, скромный слушатель-меломан, звоню ему, как равный… Вот… Даже я не ему звоню, я скромно выясняю, когда его можно застать в Капелле. Мне сказали, когда его можно застать там. Я сам туда пошел… У него идет репетиция, я вовремя пришел: он еще там. Кончилась репетиция, он выходит в окружении людей: кто-то с ним разговаривает, он спешит, собирается уходить… и я тут торчу. Подступаюсь к нему в самый последний момент: – Владислав Александрович, я такой-то, уделите мне две минуты времени!.. — Да-да-да, – вежливо, но холодно, со скрытым нетерпением… Я понимаю его! Сколько всяких просителей с пустыми или нелепыми предложениями уже приставали к нему!.. Я сжимаю себя в комок и стараюсь быть предельно лаконичным: – Мне не надо от вас ничего, ни концертов, ни помощи в чём-либо, ничего… мне нужна от вас только консультация. Мне на кафедру нужен преподаватель истории музыки, западноевропейской музыки для начала. Но преподаватель, который будет читать этот курс не по-консерваторски. Он будет читать для историков культуры – не музыковедов… Смотрю, взгляд его оживился, потеплел даже: он сразу схватил суть моей просьбы!.. Говорит мне: преподавателя дать не могу, но есть аспирант, и лекции потянет… Я застыл на миг: как, аспирант? И тут же решился: – Давайте аспиранта!.. Всё обошлось коротко и по-деловому: Владислав Александрович трудоустроил, можно сказать, своего аспиранта, которого, очевидно, ценил и любил, а мне (понял я) легче было добиться нужного мне строения курса от начинающего молодого преподавателя, чем от готового музыковеда, владеющего специальной терминологией, но беспомощного, когда нужно музыку и её создателей вписать в исторический контекст их времени и их культуры…
Оказалось, я не ошибся. Денис Николаевич Марков,[42] которого мне порекомендовал В. А. Чернушенко, только что закончил аспирантуру, оказался великолепный человек, очень способный преподаватель… Он очень рано умер, сгорел буквально. Там семейная какая-то трагедия была, какая-то женщина-сатанистка его зацепила, оторвала от семьи, он бросил детей – их трое у него было, – жену, запил… в общем, погиб человек! А был он человек яркий, необычный. Он кончал и консерваторию, и аспирантуру по классу фортепиано, и при этом еще аспирантом стал заниматься орга́ном, – а это особая специальность, даже исполнительская!.. – и освоил не только технику игры, но орга́н стал буквально его страстью! И он успел многое, оказывается. Его душа горела тем, чтобы не уничтожались, а напротив, реставрировались и восстанавливались еще сохранившиеся петербургские орга́ны! Он их разыскивал по всему городу, и некоторые ему удалось спасти!.. Заинтересовавшись органной музыкой европейского средневековья и Возрождения, он загорелся и ею. Еще аспирантом он, при содействии, конечно, Чернушенко, получил научную командировку в Испанию, объездил испанские монастыри, выкопал в монастырских библиотеках нотные автографы средневековых, возрожденческих испанских авторов-органистов: выкопал у них же и им показал! Они знать не знали, что у них богатейшая органная литература национальная!.. Его на руках стали носить, понимаете? Он прославился во всей Европе, как органист, который вот так поднимает это всё!.. Такой он был энтузиаст. Ну, а тут пошла ельцинская перестройка, разгром всеобщий, затрясло всю консерваторию, а когда поставили туда директором этого скрипача,[43] он стал особенно усердствовать по развалу учебных планов, преподавательского состава кафедр… ну, всё как обычно: упало финансирование, прекратились реставрационные работы по органной части… Марков, видимо, на этой почве и сломался, и уже не мог остановиться… Но он очень хорошо поставил преподавание на кафедре. Потом, когда пришел срок читать историю русской музыки, уже он порекомендовал мне Горячих Владимира Владимировича.[44] Он вскоре стал заведовать кафедрой у них в консерватории. Эти два человека, которые сами с душой пошли к нам работать, потому что им интересно было читать историю музыки в контексте общей культуры, а не только в музыковедческом контексте, – понимаете? – это они подняли на высочайший уровень преподавание у нас историко-музыкальных курсов!..
После этого дошла очередь до истории театра и кино. Ну, по истории кино нашлась на факультете энтузиастка – Елена Сергеевна Кащенко,[45] в то время недавняя аспирантка нашего же отделения истории искусства, и она оказалась, действительно, прекрасным специалистом, хотя очень своеобразным: она только западный кинематограф признает, никакого другого – русского, советского – для неё как бы не существует… Но если Елену Сергеевну, слава Богу, не надо было искать на стороне, то вот Валентина Михайловича Мультатули[46] я нашел тоже неожиданно и самым счастливым образом. Надо было связываться с кафедрой сценической речи в Институте культуры[47]. Предполагался интересный курс риторики, но мне не удалось найти преподавателя, который бы поднял этот курс как надо было, по моему замыслу. Поэтому и потому еще, что отказался от него найденный было преподаватель, пришлось сократить его. Курс истории театра (как и истории кино) виделся мне очень небольшим, компактным, на один-два семестра (включая русский и советский театр). Но пришёл на кафедру Валентин Михайлович – и они, вместе с Е. С. Кащенко – стали вскоре тоже ведущими преподавателями: их спецсеминары неизменно пользовались большим спросом у наших студентов!.. Так и вырастала кафедра, по мере расширения учебного плана…
Но тут настала эпоха окончательного уничтожения традиционной русской, советской системы высшего образования: стали внедрять убогую, умышленно примитивную – под прикрытием «соответствия западным стандартам» – так называемую «болонскую двухуровневую систему»… и всей отечественной гуманитарной традиции выращивания специалистов высокого класса положили конец… Что такое учебный план нынешний, общефакультетский? Это установка на верхоглядство, на поверхностное скольжение по модным научным «трендам»! Само слово «факультет» убрали, приняли западное название «институт». Это всё словесные игры, не более того, но под эту замену ликвидировали специалитет, из кафедр вымыли так называемых «узких» специалистов-профессионалов. Поэтому все научные, гуманитарные школы, которыми славился Ленинградский – Санкт-Петербургский университет, прекратили свое существование… Между тем наша кафедра, уже буквально после первого выпуска, – он состоялся в 2000-м, – и потом на протяжении ближайших четырех-пяти лет, мгновенно завоевала свой рейтинг. Никто этого не ожидал, никто на это не рассчитывал, я, во всяком случае, с удивлением узнал об этом. Оказывается, наши выпускники-искусствоведы – и в области изобразительного искусства, и театра, и музыки (поскольку ведь у нас были студенты, которые имели музыкальное образование – школу музыкальную кончали) – на работе у себя, в том же Эрмитаже, в Русском музее, в пригородных дворцах (экскурсоводами), в коллективах музыкальных (менеджерами) очень быстро и успешно проявляли себя именно благодаря своей общекультурной, общеисторической эрудиции!.. Теперь всё скукожено, всё специально подогнано, причёсано под чисто формальные словесные «стандарты»… Я пессимистически смотрю на нынешнее состояние и университетской науки, и университетского образования и думаю, что мой пессимизм не беспочвенен… но, с другой стороны, это всё у меня и слишком утрированно, потому что жизнь, она всегда предоставляет неожиданные росточки живого. Так и здесь, будем надеяться, оно прорастет как надо.
Очень много информации, очень интересно это все слушать. Какие советы молодым студентам, которые хотят себя посвятить науке, вы бы дали?
Единственный, всегдашний совет – быть честными, быть любознательными, потому что без любознательности человек может интересоваться чем угодно только уже из каких-то карьерных соображений, а всякие карьерные соображения, они – внешние по отношению к науке. Наука требует энтузиастического отношения к себе, то есть ты должен жить научной проблемой, ты должен её решать, её обдумывать, и когда это всё будет в человеке, тогда и всё остальное само по себе к тебе придёт. А если думать о карьере, а к этому главному относиться поверхностно, то ничего хорошего из этого не бывает. Поэтому я считаю, что каждому, я бы своей стороной, уже не как студенту только, а именно как молодому человеку – студенту или не студенту, всё равно – порекомендовал бы еще одно… Вдумайтесь: среди всевозможных «общих мест» – лозунгов, представлений, рекомендаций, внушений – существует одно, самое ложное и очень вредное, а между тем оно сейчас рулит, громко пропагандируется. Это так называемый лозунг «самовыражения». В искусстве режиссер «самовыражается», актер «самовыражается», художник «самовыражается», ну и так далее, сколько угодно. А я могу так сказать: Не надо заботиться о самовыражении, потому что если тебе есть что собой или в себе, из себя выражать, то оно выразится. А если нечего выражать, то и все твои заботы о самовыражении окажутся пустой тратой времени, пустой трескотнёй. Надо отделить одно от другого. Есть прекрасная формула, которая была высказана применительно именно к людям искусства: Люби искусство в себе, а не себя в искусстве! Что это значит? Это значит, что ты живёшь – должен жить! – искусством. Если ты этим живёшь, если ты способен на это, всё твоё в тебе проявится само, ты только доверяй себе, будь честным перед собой. А если в тебе этого нет или если ты начнёшь заботиться о том, чтобы зомаявить своё «я» в искусстве, то это означает, что ты изменяешь самому себе, подменяешь себя пустозвонством. Вот от пустозвонства я бы и предостерёг. Надо быть честным перед самим собой и ни в коем случае ни в чем не позволять себе халтурить – этого нельзя делать никогда! Надо каждое дело докапывать до предела, на который ты сам способен! Беспредельно – всё! Концов – никто никогда не достигнет! Поэтому сколько ты ни стремись к глубинам, высотам, широтам, ты этого всё равно не исчерпаешь всех возможностей до конца!.. Но если ты к этому стремишься, то и найдёшь себя… в чём-то, в чем только ты начинаешь что-то понимать, что-то улавливать, что-то исследовать, так оно всегда и бывает. Потому что все открытия, все художественные открытия, они совершаются людьми, которые живут этим. Надо этим жить, и тогда ты состоишься в той мире, в какой ты на это способен, какой ты одарен. А об этом не надо заботиться, надо знать, что ты непременно одарён, и не одним чем-то: это лишь проявится в тебе что-нибудь одно, в данных обстоятельствах актуализированное, только и всего. Я так считаю.
Спасибо большое за интервью.
[1] Буерак - небольшой овраг, выбоина.
[2] «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» - повесть советского детского писателя Рувима Фраермана, написанная в 1939 году.
[3] Повесть А.И. Свирского (1865-1942) «Рыжик» адресована подросткам и представляет собой одно из самых трогательных произведений автора. Была опубликована в 1912 году.
[4] «Дети капитана Гранта» — приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, изданный в 1867 году.
[5] «Пятьсот миллионов Бегумы» — научно-фантастический роман Жюля Верна, изданный в 1879 году.
[6] Повесть «Александр Матросов» опубликована в 1949 году.
[7] Павел Журба (1895-1976) - советский писатель, прозаик и журналист.
[8] Маргарита Иосифовна Алигер (1915-1992) - советская поэтесса и переводчица, журналистка, военный корреспондент. Поэма Маргариты Иосифовны Алигер «Зоя» посвящена героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.
[9] ДВПИ – Дальневосточный политехнический институт.
[10] Быков Всеволод Тихонович (1905-1977) – советский ученый - химик. В 1953–1961 возглавлял ДВФ АН (с 1957 – ДВФ СО АН СССР).
[11] Детгиз - издательство детской литературы, создано в 1933 году.
[12] Григорий Абрамович Бялый (1905-1987) – советский филолог, литературовед, литературный критик, профессор Ленинградского государственного университета (1939).
[13] Андрей Ильич Фурсов (род. 1951) – советский философ, историк, политолог, публицист.
[14] Исаак Григорьевич Ямпольский (1902-1992) – советский литературовед, специалист в области истории русской литературы и публицистики XIX века.
[15] Виктор Андроникович Мануйлов (1903-1987) - советский литературовед, мемуарист и сценарист, выдающийся лермонтовед.
[16] Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912-1986) – советский литературовед и критик. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской литературы ЛГУ (1965-1981).
[17] Юрий Иванович Юдин (1938-1995) – советский ученый-фольклорист, специалист по былинному эпосу русского народа, доктор филологических наук (1979).
[18] Владимир Яковлевич Пропп (1895-1970) – советский филолог, всемирно известный фольклорист-теоретик, профессор Ленинградского государственного университета (1939).
[19] Леонид Николаевич Андреев (1871-1919) - российский писатель и драматург.
[20] Публицистические очерки Ф.М. Достоевского. Впервые опубликованы в журнале «Время» в период с февраля по март 1863 года, под названием «Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за всё лето».
[21] Речь о Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) (с 1932 по 1992), ныне РНБ СПб - Российская национальная библиотека, город Санкт-Петербург
[22] Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) — российский писатель, журналист, прозаик и редактор, общественный деятель.
[23] Аскольд Борисович Муратов (1937-2005) -советский литературовед, теоретик и историк литературы.
[24] Ксения Дмитриевна Муратова (1904-1998) – советский и российский российский библиограф, литературовед, источниковед.
[25] «Дым» — пятый по счёту роман И. С. Тургенева; написан в 1865-1867 годах.
[26] Кандидатская диссертация Ю.К. Руденко на тему «Н.Г. Чернышевский как художник: юношеские произведения и роман “Что делать?”» была защищена в 1971 г. Основные главы диссертации опубликованы как отдельная монография под названием «Роман Н.Г. Чернышевского “Что делать?”: эстетическое своеобразие и художественный метод» (Изд-во ЛГУ, 1979).
[27] Имеются в виду ранние произведения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) – повести в стихах «Параша» (1846) и «Помещик» (1847), повести и рассказы (1844-1852), в особенности сб. «Записки охотника» (1847-1852), и пьесы (1848-1851).
[28] Имеются в виду ранние произведения Ивана Александровича Гончарова (1812-1892) – роман «Обыкновенная история» (1847) и отдельная глава из будущего романа «Обломов» (1859) «Сон Обломова» (1849).
[29] Алексей Феофилактович Писемский (1821-1881) - русский романист и драматург, автор повести «Тюфяк» (1850), романа «Тысяча душ» (1858), драмы «Горькая судьбина» (1859, пост. 1863).
[30] Дмитрий Васильевич Григорович (1822-1899/1900) — русский писатель, автор очерка «Петербургские шарманщики» (1845), повестей «Деревня» (1846) и «Антон-горемыка» (1847).
[31] Имеются в виду ранние произведения Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881) – роман в письмах «Бедные люди» (1845) и последовавшие за ним повести и рассказы (1846-1848).
[32] Яков Петрович Бутков (1820 или 1821 – 1856) – русский писатель, автор сб. «Петербургские вершины» (1845-1846).
[33] Евграф Иванович Покусаев (1909-1977) - советский литературовед, специалист по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина и Н. Г. Чернышевского.
[34] Роман Осипович Якобсон (1896-1982) - российский и американский лингвист, педагог и литературовед.
[35] Игорь Яковлевич Фроянов (1936-2020) - выдающийся советский и российский историк, общественный деятель, писатель, с 1982 по 2001 год декан исторического факультета ЛГУ – СПбГУ, с 1983 по 2003 год зав. кафедрой русской истории (до 1991 г. – истории СССР до 1917 года) того же факультета.
[36] Юрий Иванович Юдин (1938-1995) - советский филолог-фольклорист, ученик и последователь В. Я Проппа.
[37] Ветловская Валентина Евгеньевна (род. 1940) - советский литературовед, теоретик и историк русской литературы, старший научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома).
[38] Прохоров Гелиан Михайлович (1936-2017) – советский и российский историк-византинист, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, Главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
[39] Дионисий Ареопагит - христианский святой, мыслитель Афин. Погиб около 96 г.
[40] Иванова Татьяна Григорьевна ( род. 1953 ) – российский доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
[41] Чернушенко Владислав Александрович (род. 1936) - российский дирижёр, хормейстер, музыкальный педагог, музыкально-общественный деятель.
[42] Марков Денис Николаевич (1968-2009) - доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории (1997); ассистент кафедры западноевропейской и русской культуры СПбГУ с 1998 года.
[43] Стадлер Сергей Валентинович (род. в 1962)- лауреат Международных конкурсов (Прага, 1976 – I премия; Париж, 1979 – II премия; Хельсинки, 1980 – II премия; Конкурс П. И. Чайковского, Москва – I премия), был ректором Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в 2008–2011 гг.
[44] Горячих Владимир Владимирович (род. 1972) - кандидат искусствоведения, преподаватель, доцент кафедры истории западноевропейской и русской культуры СПбГУ.
[45] Кащенко Елена Сергеевна (род. в 1975) - кандидат искусствоведения, преподаватель СПбГУ, доцент кафедры истории западноевропейской и русской культуры СПбГУ.
[46] Валентин Михайлович Мультатули (1929-2017) - филолог, литературо- и театровед, кандидат искусствоведения, доцент.
[47] Санкт-Петербургский государственный институт культуры


