Интервью с Татьяной Львовной Никольской
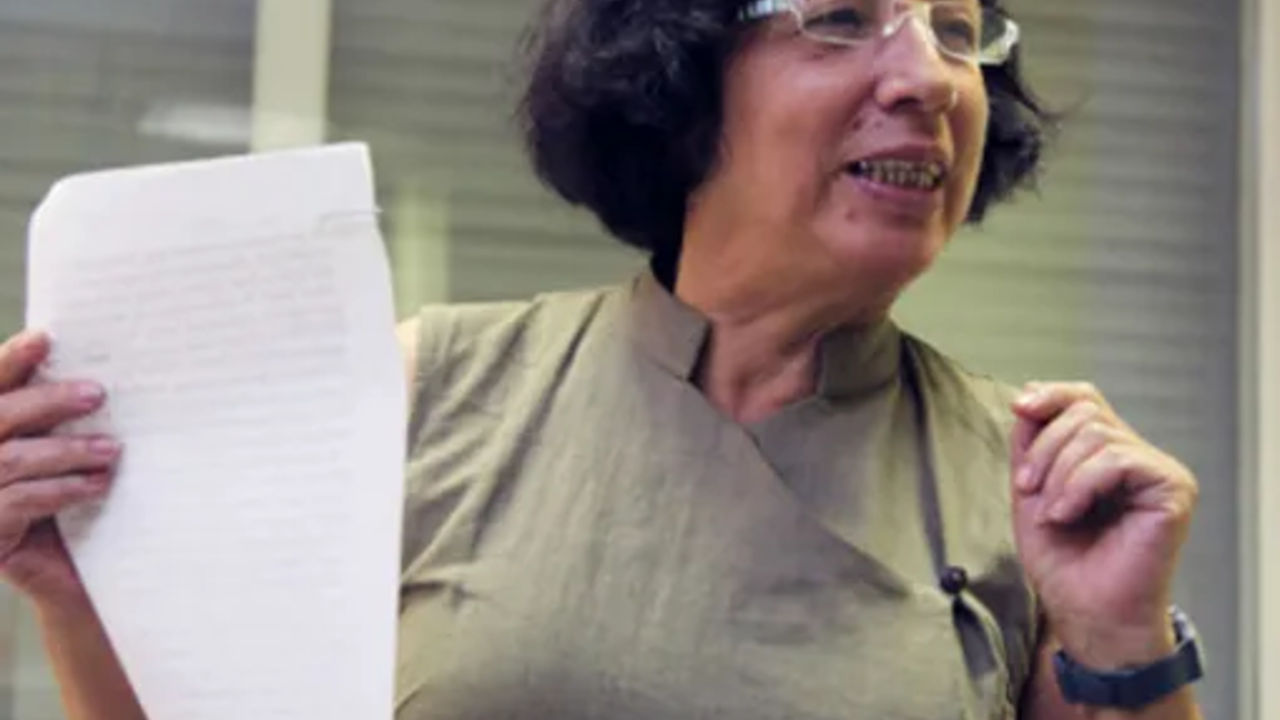
Татьяна Львовна Никольской о ленинградской литературоведческой школе и особенностях образовательного опыта студентов-филологов в 1960-е гг.
Ключевые слова
Упоминаемые персоналии
Интервью с Татьяной Львовной Никольской
Хотелось бы начать немножко с нестандартного вопроса, мы Вам выслали список вопросов и, наверное, многое вспомнили, освежили в памяти. И скажите, пожалуйста, у вас было довольно насыщенное детство [юность], в интервью Вы очень ярко многие детали описывали. Может быть, пока вы готовились к нашей встрече, какие-то моменты ярче всего вспомнились именно из детства в Петербурге, жизни перед периодом студенчества?
Перед периодом студенчества самые яркие моменты — для меня лично были выставки в Эрмитаже западноевропейского и южноамериканского искусства. Например, на меня сильнейшее впечатление тогда… Я где-то в старших классах школы была, я помню, с папой ходила и с мамой на выставку «Сокровища Мексики». В Эрмитаже была. И там наряду с историческими всякими артефактами, раскопками, там были вот картины Диего Ривера и, особенно, Ороско[1] на меня, — такой художник на меня колоссальное впечатление произвел. Вот это просто до сих пор помню, вот эти вот картины. Там картина Ороско называлась такая – «Расчленённая» [смеётся]. То есть ничего такого я не видела. И тоже Диего Ривера... То есть это для меня совершенно было новое, и оно произвело очень серьезное впечатление. Ну, на выставке Пикассо я не была, еще маленькая была. То есть я слышала от взрослых, всё… Но вот выставка этого южноамериканского, по-моему, мексиканского искусства, да, «Сокровища Мексики», — она на меня произвела огромное впечатление. Ну и что еще? А, ну еще могу сказать, да, еще две вещи.
Во-первых, джаз. Еще в школе у меня были... Да, тогда мы увлекались джазом. У нас еще в школе, в 8-м классе, была компания: там несколько мальчиков, несколько девочек. И мы у одного из мальчиков слушали такой деревянный приемник, такой ламповый приемник. Станция «Танжер». Танжер — это где-то там в Северной Африке. Алжир, что ли, не знаю. И там по этой станции «Танжер» были программы джазовой музыки, и мы приходили слушать джазовую музыку. А потом еще у этих мальчиков были на костях такие пластинки[2]. И там вот мы вот первые рок-н-роллы [у] этих мальчиков... [Элвис Пресли, Чак Берри]. А потом дачу там в Пушкине мама с папой, мама с бабушкой дачу снимали в Пушкине, — там ребята из этого дома, где мы жили, они тоже этим увлекались. Они такие вот эти радиолы, я не знаю, что ли, — они выносили просто радиолы, я помню, на улицу из дома выносили, и у них тоже вот на костях эти пластинки: вот Элвиса Пресли, первые рок-н-роллы, Чак Берри, Элвис Пресли… И вот там я так танцевать не умела, но я действительно завидовала, восхищалась, как... А там какие-то мальчики были. И девочка одна, Алла, я помню, звали, которая только что в институт… физкультуры поступила. И эта девочка с этими молодыми... ну, мальчиками, которые, наверное, я не знаю, учились тогда в школе или где-то работали, простые были ребята, — они вот спортивный рок-н-ролл танцевали под эту музыку. Это было нечто потрясающее. Это на меня произвело очень сильное впечатление. А потом… Уже тоже я еще в школе училась. Это вот когда Бенни Гудман, я уже так более-менее... Да, я тогда... Ну, все-таки книжки какие-то. У меня была подруга такая — Элла Рябкова. Она в техникуме училась и тоже джазом увлекалась. Потом она в каком-то народно-джазовом училище была, она его закончила, такое было. Вот. И... Она мне рассказывала; какие-то брошюрки какие-то появились, вот уже по истории джаза, потом я так кого-то читала внимательно, какие стили там: боп, кул — вот это уже. И, конечно, было… Когда Бенни Гудман[3] приехал, я не попала, но очень хотелось. Так что вот из музыки — джаз и ранний рок-н-рол, а из живописи — это вот южноамериканская, вот мексиканская живопись.
Да, и тогда уже я ходила в юношеский зал публичной библиотеки на Фонтанке, и там тоже можно было смотреть вот альбомы по искусству. И там, я помню, я Сальвадора Дали… Вот, мне посоветовал кто-то, — и рассматривала альбомы Сальвадора Дали, это тоже. «Слон на паучьих ногах» — это вообще было впечатление сильнейшее. И, ну, надо сказать, что да, книжки — тоже было очень забавно. Книжки читали как бы наоборот, то есть, от противного. Всякие были книжки тогда: ну вот можно было купить, продавались «Кризис безобразия», «Абстракционизм», там то-то, то-то, то-то. Такая-то гадость. И мы все эти книжки покупали, там их читали, потому что там назывались имена художников. И пусть в очень плохом качестве, но приводились репродукции: скажем, Поллок[4], абстрактный экспрессионизм. То есть можно было между строк узнать, что это такое. Это всё негативно подавалось, но тем не менее факты какие-то приводились: кто когда жил, кто что там нарисовал и так далее. Так что вот это тоже было.
Да, у вас такой... Интересно, что это именно опыт в области искусства. И в целом, ещё до поступления в университет, вы такой насыщенный интеллектуальный образ жизни вели, и вы с Ахматовой, и с Бродским до университета были знакомы, кафе поэтов, по-моему, посещали, не ошибаюсь. И не просто литературой увлекались, вы и статьи к тому моменту уже писали.
Нет-нет-нет, извините, не надо. Я как раз на днях была с приятельницей в Пушкине, там был вечер «Романсы Бродского». И там одна женщина, я фамилию не помню, кто выступал... Ну, мне просто было любопытно со стороны посмотреть, как это делается. Я осталась, честно говоря, не очень довольна тем, что говорили, как говорили. Мне приятельница говорит: «Так они это же не сами, они с Википедии все взяли». То есть, короче говоря, такое выпрямление, как там говорилось... Ну, пели песни, да, очень даже простые: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать», допустим. И тут же говорилось, причем явно как цитата, что какие сложные у Бродского стихи, их сразу же не понять. И когда тут же поются стихи, в общем, довольно простые, что одно другого не отменяет, но вот подтверждает тезис немножечко не тем. Вот. Или там, где-то там в другом месте тоже. Когда там про Бродского говорят, типа как заставка по какому-то радио, по какому-то, не помню… Суть заключается в том, что после седьмого класса, в трудные послевоенные гг., он ушел из школы для того, чтобы помогать семье, устроился на завод. То есть, может быть, ну как бы действительно ушел из школы, правда. Но вот тут получается все такое выпрямление. Может быть, мысль о том, чтобы помогать семье, у него тоже была, но назвать главное определяющее, что если бы семья жила лучше, он бы закончил 8-9-10-й класс, понимаете? Из этого делается вывод. Просто человек... Ну, ему не нравилось, как там преподавали, хотел что-то по-другому, был конфликтным. Всё. А сводить просто к желанию помощи семье... Это вот такое выпрямление, немного бело-чёрной получается картина.
Да, но я почему эти факты привожу…
Я могла писать прозу, рассказы я писала. Я не поэт. Я могла в какой-то степени владеть версификацией, могла на день рождения написать какой-нибудь стишок, но стихов по-настоящему я никогда не писала.
Да, я имела в виду, что вы уже к тому моменту статьи пробовали писать.
Статьи, да.
Не стихи, а статьи.
Вот-вот-вот. Я просто сразу возмущена, потому что вот я...
Поэтов вы изучали, как я понимаю, не писали.
Да, для примера, для примера… Я в жизни написала… Я вот с бабушкой все время в Пушкине летом жила. И там еще там девочкой, может, в пятом-шестом классе раньше ходила: ну одну меня пускали, около парка жили. И там к экскурсиям пристраивалась. Ну и слушала всякие экскурсии: ну, естественно, откладывалось про Пушкина. Нет, это было еще... Поэтому где-то лет в 6 или 7 я вот написала стихотворение и прочла родителям. Родители дали соответствующую [смеётся] оценку, после этого я не писала. Но стихотворение запомнила. Значит такое: «Люблю тебя я, город Пушкин. / С твоими парками тенистыми, / С твоими пейзажами картинными. / Гулял великий Пушкин по тебе. / И думал он, когда настанет час свободы? / Да, я люблю тебя, / Ты – гений, Пушкин, / И город, в котором жил ты, / — Царское Село». На этом мое поэтическое творчество закончилось. Хотя, конечно, на дни рождения поздравления я [смеётся], конечно, могла написать. Нет, просто я никогда себя в поэзии серьезно… Хоть чуть-чуть по случаю… Поэтому я отрицаю. О стихах я начала писать рано — это все действительно верно, но сама я себя… Не просто поэтом не была, а даже стихотворцем. Но заниматься стихотворцами любила.
Ну да, это у вас такой исследовательский самый интересный проявился. И вот я хотела спросить, когда у вас и так уже был в юности довольно... ну, багаж, все-таки опыт культурный… Когда вы в университет поступили, вы почувствовали, что перед вами какие-то еще новые двери открылись? Было ли это явственным?
Это было явственным, потому что тогда столько было преподавателей, которые еще получили, — которые хотя бы родились вообще до Октябрьской революции, и гимназию хотя бы там закончили. И вот это чувствовалось: именно широта, диапазон, широта образования. Там они все знали, — гимназиях до революции учили, допустим, латынь греческий, минимум два иностранных языка, а то и три, — ну кто какую гимназию, кто что заканчивал. Просто люди совсем с другим культурным багажом. Вот в чем дело. И таких еще, когда я поступила, было много преподавателей. И вот этот вот общекультурный уровень — он тогда еще оставался, он чувствовался.
А скажите, пожалуйста, это вы именно на лекциях, на занятиях ощущали, или еще как-то проявлялось в целом? Может, в отношениях?
Нет, ну, это проявлялось, ну, конечно, и на лекциях. Поэтому мы ходили не только к своим преподавателям, допустим, но и к каким-то другим. Например, я помню, что не часто, но вот... Дело в том, что как лектор, — тут тоже есть разница: можно быть кабинетным учёным великолепным, но не... Но просто у человека может не быть способности это донести. Свои знания интересно донести, во всяком случае. То, что он знает, он может, конечно, это рассказать, но чтобы это было интересно, — заинтересовать студентов… Такие случаи, в общем, тоже я знаю. А есть люди, которые именно себя проявили больше как лекторы, которые вот... Естественно, у них есть культурный багаж, там всё, но им лучше удается устное воспроизведение. Вот, например, у нас было два таких на факультете. Это вот Бялый[5]. Я к нему редко ходила, потому что там толпы, нельзя было протиснуться. Он по XIX веку читал лекции, и вот лекция Бялого — просто толпа студентов со всех там отделений: может, там русское, английское, французское, классическое, — бегут на лекцию. И именно такой топот [смеётся] копыт бежит. В результате люди садятся в аудиторию, места уже нету. Тогда договариваются, чтобы открыть, там, скажем, 31-й у нас был актовый зал, но он тоже не всегда был открыт, — чтобы больше народу поместилось. Если удается договориться, потому что дальше просто уже кого-то не пускают, а как же люди? Человек мог сбежать со своей лекции, допустим, потому что он хотел эту лекцию Бялого послушать. И все бегут сразу в 31-ю аудиторию с одного этажа на другой.
А вот у нас преподавал — тоже как лектор он был замечательный совершенно — это Макогоненко[6]. Я просто даже помню, что я еще не училась, я иногда даже ходила еще в последнем классе школы. У меня одна знакомая там уже училась, и просто как бы с ней я проходила. Тогда такого не было: то есть можно было просто прийти на лекцию, на семинар. Но если на семинаре три человека, может быть, и спросит: «А вы там из какой группы?» — и всё. А если там даже хотя бы 10-12 — да никому преподавателю в голову не приходилось спрашивать, а вы кто, а вы кто. Если это, ну, вот не зачет, естественно, просто какое-то занятие там семинарское. Не говоря уже про лекции. Так я ходила еще, я помню, не будучи студентка сама, к Макогоненко на лекции. И потом он нам преподавал, потом я ему экзамен сдавала. Это было как театр, очень интересно. Он был более молодого поколения, чем старые преподаватели. Среднего поколения такого был. Но очень артистичен. Я до сих пор помню, как он нам читал лекции по Фонвизину про «Недоросль». Он такой… И как Скотинин, и как Простакова [смеётся]. Буквально... Ну, театр одного актёра, допустим. Явно, что ему надо было… Может, он где-то когда-нибудь в Сценическом театре или в каком-то ещё выступал. Но это было явно его. Потому что столько лет прошло, я помню, как он великолепно по ролям. И после этого «Недоросль» мы все тоже уже знали, могли пересказать после одной лекции. Даже можно было не читать, потому что он проиграл всю пьесу. Так что вот это с одной стороны, а с другой стороны, мне, конечно, повезло.
Да, причем были преподаватели, все, с какими мне приходилось общаться, у нас преподавали. Они... Некоторые были неэффектные, допустим, даже, может, немножко скучновато, но очень хорошо знали свое дело или занимались интересной темой. Например, Ямпольский[7], он текстологом был. И он, в частности, Алексея Константиновича Толстого, которым я интересовалась... У него на тот период было самое интересное издание, наиболее полное, Алексея Константиновича Толстого. Лекции он читал средние, но лекции информативные. Все это сказать, что так вот увлекательно, — я не могу сказать. Но все знали, какие интересные книги он комментировал, и какой хороший это был комментарий. Это уже было для личного чтения, для работы с книгой. То есть человек возьмет просто Алексея Толстого, допустим, почитает, и у него масса вопросов возникнет. Ну, он читает, допустим: «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». Скажет: «Кто такой Гостомысл?», — один спросит, а другой спросит, кто такой Тимашев. И комментарии же нужны, допустим. И у него очень подробные комментарии — исторические, текстологические. Очень были полезно уже для индивидуальной работы.
Или, например, с другой стороны, вот Виктор Андроникович Мануйлов[8]. Он совершенно... И лектор был хороший. Он это… Все безусловно помнят про Чарубина-де-Габриак. Он рассказывал историю этой литературной мистификации, как поэтесса Чарубина-де-Габриак жила у Волошина. Потом она свои стихи послала в Аполлон, их не напечатали, потому что ее фамилия на самом деле была Дмитриева. Им это было неинтересно. и тогда они вместе с Волошиным придумали вот такую фамилию, что она… И биографию, что она испанская графиня, вообще Чарубина ее зовут, и вот это в стихах ее вымышленная биография обыгрывалась. Сразу мало того, что ее стали печатать, — в нее влюбился редактор журнала Аполлон Маковский: она с ним только по телефону разговаривала, свидания не было. В общем, все это кончилось литературной дуэлью между Гумилевым и Волошиным, обидой на всю жизнь Маковского, который — уже 50 лет прошло — написал воспоминания «На Парнасе Серебряного века». О ней довольно сурово отозвался, потому что он в нее влюбился [смеётся]. Оказалось, совсем не та роковая женщина, которую он знал, причем лично, как Дмитриеву, — она тоже участвовала под своей фамилией [смеётся]. Ну, в общем, естественно, все это было интересно всем студентам.
И кроме того, Виктор Андроникович относился к тем преподавателям, с которыми мы общались не только на занятиях. А вот я, например, в Коктебель поехала. Я не помню точно, какой это был г. Но факт тот, что там был Виктор Андроникович, тоже отдыхал. Он каждое лето там отдыхал. И поскольку я у него училась, я просто пришла в Дом творчества, узнала, где он живет. И мы с ним встретились. Он меня познакомил с Марьей Степановной Волошиной, которая позволила мне заниматься в библиотеке Волошина: туда приходить и там книжки читать. Она не всем позволяла, просто по рекомендации. Ну, потому что пропадали книжки из библиотеки, всяко там бывало. Масса народа приезжала и так далее. Вот. И я туда ходила каждый день, помогала. Ей ничем не помогала, а Виктор Андроникович тогда работал... У него был проект «Лермонтовская энциклопедия». И ему нужно было чем-то помогать, там какие-то карточки сортировать. И я там в свободное время на отдыхе ему как раз что-то помогала. И он тогда даже студентов, меня и еще других студентов, — предложил нам участвовать в работе для «Лермонтовской энциклопедии» писать статьи. Ну, в итоге я там две статьи потом для нее написала. Причем она была абсолютно, еще только в проекте: не было ни утверждений, финансирования не было, ничего. И он всех уговаривал, что это, знаете, как вот вклад в сберкассу или облигации, потом будет [смеётся]. И, действительно, в конце концов вышла такая большая энциклопедия, там две мои статьи есть, и я вот… Ну, приятно. Это вот эта заслуга целиком Виктора Андрониковича.
А главное — он нас, там, и в Коктебеле, на могилу Волошина, там на Карадаг водил. А кроме того, мы с ним ездили: я, например, с ним, и не только я из университета, но человек 5 или 6 из разных, допустим, отделений, кому он преподавал. И плюс еще был наш преподаватель, он у нас стиховедением преподавал. Холшевников. И он нас возил в Старый Крым. Где-то микроавтобус достал в Старый Крым. Это было интересно, потому что мы там ходили, во-первых, к вдове Грина, которая очень отличалась от вдовы Волошина. Вот две вдовы совершенно разные. Мария Степановна была очень жесткая, властная женщина. И, допустим, мне-то было хорошо, она мне позволила книжки читать. Я сидела и читала, а там все время всякие приезжие, — они все время пол у нее мыли. Какие-то девочки, мальчики, которые приехали отдыхать. И они все время, каждый день приходили, мыли у нее пол, хотя у нее была [служанка]... Я потом уже позже была после университета на конференции по Волошину, и там даже ее там домработница выступала, — у нее было кому… [мыть полы]. Да, и устраивала скандалы: «Вы не сняли обувь!»… И вот это еще… Строго было на чистоту. И когда к ней... Нине, отчество я не помню сейчас, — к вдове Грина когда мы пришли, то сразу же первое движение – обувь снимать. Она говорит, нет, не снимайте. И нас всех уже это поразило, потому что мы к строгости Марии Степановны уже привыкли. «Да нет, не надо, у меня вот коврик, пожалуйста», всё такое. Вот. И она нам очень много всего рассказывала, мы и вопросы задавали. А потом для меня было самое интересное, потому что я уже там стала переписываться с поэтом Петниковым[9], который жил в Крыму, он был… В группу «Лирик» входил, был поэтом, футуристом. И Мануилов его знал, я его попросила, он нас повел к Петникову, и Петников нас очень хорошо принял. И он нам читал, — он переписывался, как бы назывался, с основателем, с отцом футуризма, с Давидом Бурлюком, который вот умер не так давно, в то время. И он нам читал письма от Давида Бурлюка, от его уже вдовы там Марии Бурлюк, и как его тогда… Я помню, произвело впечатление, что он завещал, чтобы его прах развеяли в Тихом океане: чтобы его дети, жена вышли на катере или на лодке и его прах над океаном развеяли. И причем это... Только тогда я сообразила, почему в одном из писем — Петников демонстрировал — было перо удода. Прислал. А потом я сообразила, Додя Бурлюк — удод. [смеётся] Такая игра футуристическая, фонетическая игра. Прислал удода: от Доди перо удода. Они в молодости были вот вместе, занимались всякими выступлениями. Так что Виктор Андроникович — это особая история, потому что масса людей: и старше меня, и моложе меня, — его на всех хватало — туда приезжали в Коктебель, и он всех водил и на Карадаг, и в Старый Крым, и всё. К Петникову не всех, но к вдовам всех. И его поэтому называли... Я там, когда жила на каком-то... Ну, сняла просто как там за рубль (тогда всё рубль стоило) на чердаке там, — ну, койку на чердаке, там ещё две женщины тоже жили. Чердак недостроенного дома, нужно было по лестнице забираться. И эти женщины, которые там отдыхали, — они из разных городов были, не из Ленинграда. И они говорят, вот мы... А вы тоже знаете, это затейник из «Голубой волны»? Я говорю, какого затейника из «Голубой волны»? А там рядом с домом Волошина был какой-то пансионат «Голубая волна». И Мануилов — он еще тюбетейку носил — он мимо все время проходил, и все время в окружении людей. И его считали в народе, — считали, что Мануилов — это массовик-затейник из пансионата «Голубая волна». Я говорю, это мой преподаватель [смеётся]. Так что это отдельная история. Потом здесь он в Комарове в Доме творчества жил, я тоже несколько раз к нему приезжал в гости.
То есть, короче говоря, были преподаватели, которые только на занятиях общались со студентами. А были преподаватели, вот три, — могу трех назвать преподавателей, с которыми я лично общалась, которые и в университете, и вне стен университета. Это Виктор Андроникович Мануйлов. Потом, значит, это Борис Федорович Егоров, совершенно замечательный человек, который умер только недавно, г. в [20]20-м, в возрасте 92-93 лет. Причем он до конца работал в Институте истории, вот работал, и через каждые два-три г. новую книжку издавал и все, он там выступал. В общем, на 90-летии я была: вполне бодрый, энергичный. Ну, и ему кардиостимулятор там вставляли, но все равно он такой был очень энергичный. И прекрасно себя чувствовал. Борис Федорович — он вел семинар по... В общем, его главный герой был Аполлон Григорьев, он им занимался. А он же в Тарту работал, а потом сюда перешел, в Ленинградский университет. И он вел семинар: Майков и его время. Нет, в смысле, Аполлон Григорьев и его время. И я там писала у него курсовую работу «Поэма Майкова „Три смерти“». И потом также у него в семинаре я оппонировала, там со мной вместе учился Женя Звягин, с которым мы вот были хорошо знакомы. Он умер несколько лет тому назад, который сделался потом известным ленинградским писателем, очень хорошим писателем, на мой взгляд. Такой — именно то, что называется, петербургский текст писал о Ленинграде и его времени.
[Пауза, диалог прерывается на краткую беседу с преподавателем].
И Борис Федорович попросил по Аполлону Григорьеву, я уже не помню, по какой поэме написал свою курсовую работу, — попросил, чтобы я ему оппонировала, и как раз я помню… Да, так он, Борис Федорович, он потом своих семинаристов, — с ними совершал прогулки по Петербургу Аполлона Григорьева. Действительно, уже о них многое написано, вошли в историю… Он просто по местам, где бывал Аполлон Григорьев: и Мойка, и канал Грибоедова, насколько я помню. И более того, он делал настойку по рецепту Аполлона Григорьева. Потому что, как известно, Аполлон Григорьев и его друзья увлекались всякими настойками, скажем так. И потом в конце экскурсии куда-нибудь в какой-нибудь дворик заходили. Тогда не было еще запоров на дворах. И можно было в какой-нибудь дворик зайти, на скамейку сесть. Причём могло быть 8-10 человек. Ну, по чуть-чуть, по капельке этой настойкой угощал собственноручно приготовленной по рецепту Аполлона Григорьева [смеётся]. И все были довольны, и всем было хорошо. Как бы приобщились к такому... Ещё к одному петербургского мифу. Попробуем настойку Аполлона Григорьева.
И третий, о котором я хочу рассказать, — это Дмитрий Евгеньевич Максимов[10]. Я у него 3 года занималась, поэтому надо поподробнее. Я у него 3 работы, соответственно, писала. У него единственного вот в университете, был блоковский семинар, где был не только Блок, но вот то, что сейчас называется «Серебряный век». Тогда еще такое вот название массово не фигурировало. Была книга Маковского, выпущенная во Франции, по-моему, или в Америке, «На Парнасе Серебряного века». Но вот «Серебряный век» как такое вот понятие, которое сейчас вот каждый знает, — в общем, не было такого еще. И очень многие к Дмитрию Евгеньевичу ходили на семинар, кто интересовался именно началом XX века, кто интересовался символизмом, он по символизму. Там как раз была замечательная компания: это моя приятельница, ставшая очень хорошим прозаиком, на мой взгляд опять же, — Белла Улановская[11], там у него занималась. Потом она в музее Достоевского работала. Там же у него в семинаре занималась Наташа Ашимбаева[12], директор музея Достоевского. И ещё это самое, Наташа Фрумкина[13]. Кроме того, Витя Кривулин[14], который уже тогда был известный университетский поэт, тоже в семинаре занимался у Дмитрия Евгеньевича. И другой поэт, он рано погиб, Лёва Васильев такой. И там Васильев и Кривулин, — там было студенческое литературное объединение. И там одни были за Цветаеву — за Ахматову, а в рамках университета одни за Кривулина, другие за Васильева. И помню, когда я туда пришла, — поскольку я стихов не писала, я там не состояла, — ну и тогда просто послушать: было какое-то у них собрание. И они орали, чей следующий вечер сделать: собственно говоря, Кривулина или Васильева? Одни орали: «Кривулин!», а другие орали: «Васильева!». Как такое вечер… Кто кого перекричит? Чем это закончилось, я не знаю, но главное, что они дружили между собой и абсолютно не были врагами или антагонистами.
Дмитрий Евгеньевич, он, конечно, человек очень был образованный, причем именно во всем: и в манерах, и в обращении. Даже, я бы сказала, где-то церемонный. И в то же время он приглашал студентов к себе домой. И не просто… У Виктора Андрониковича тоже дома я бывала, но там немного по-другому. Виктор Андроникович часто приглашал на кого-то. Например, он дружил с Ираклием Андрониковым. И когда Ираклий Андроников[15]… Я лично не была, но вот мои знакомые были, рассказывали, что он всех соседей по коммунальной квартире приглашал на Андроникова. Плюс еще знакомых. Зато я была уже после окончания Виктором Андрониковичем [университета, на защите] докторской диссертации — как раз в 31-й аудитории, самой большой на филфаке. Защищал по совокупности работ по Лермонтову. Вот, по лермонтоведению. И у него были, как сейчас помню, два оппонента. Один — Григорян[16], а другой — Андроников. И масса народа пришла просто не столько даже… Кто-то на защиту, а кто-то на Андроникова бесплатно посмотреть. В те годы он в Большом зале филармонии выступал, и по телевидению выступал, как раз «Загадка Н. Ф. И.»: и вот про Лермонтова, про Пушкина, всякие истории. Это была защита как такое шоу, можно сказать. Потому что эти оппоненты еще так пререкались между собой. Один там это самое... А, «бежали робкие грузины…». Другой что-то про армян в шпильку. А третий, я не помню, кто, говорит: «Я не буду говорить про армян, я не буду говорить о грузинах. Я буду говорить о Мануйлове» [смеётся]. В общем, короче говоря, действительно было очень интересно. Ну, как театр, интересно. А вот Дмитрий Евгеньевич… Все было более чинно, более строго. И он к себе в гости приглашал. И у него масса было всяких... Письма хранились [некоторых] писателей, по поводу Блока, например. И он давал студентам своего семинара, их показывал, и даже позволял к себе домой приходить, чтобы на основании этих текстов, которые у него есть, но студенты их включали в свои курсовые работы. То есть он показывал им, как надо обращаться с архивными, скажем, материалами, и предоставлял возможность у себя дома, в кабинете, общаться с этими материалами, то есть приучал к каким-то основам научной работы, причем с документом, — работы с документом. И в то же время его жена Лина Яковлевна… У него чай пили, чего-то там ужинали. И он, кроме того, — это уже, наверное, более узкому кругу — сам писал стихи уже в таком возрасте, и он нам всем читал свои стихи. Неоднократно, я помню, я слышала. Но потом, я не помню, при его жизни или после смерти, сборник стихов издали. Но он мог и каждому студенту, если что-то ему не нравится, — мог и замечания сделать. Вот у меня такое, например, было, когда целый разнос мне Дмитрий Евгеньевич, — хотя у нас были чудные отношения — он мне учинил, потому что я писала работу о Сергее Соловьеве и пригласила на свой доклад своих знакомых. Ну, я решила, что поскольку я делаю доклад на семинаре, я могу несколько человек пригласить, и двух человек он не знал. А это были такие люди, ну, солидные. Муж-жена там, мои друзья, ну, лица такие — солидные люди. Ну, они посетители Филармонии всё время. В общем, короче говоря, ну, он с ними не был знаком. И когда я прочла там доклад, там всё прошло нормально, всё хорошо. А потом меня через несколько дней в коридоре остановил и форменный разнос устроил. Причём, во-первых, за то, что я его не предупредила, что я приглашаю, что он этих людей не знает, что я ему о них не рассказала. Это одно. Во-вторых, что я там что-то сказала про новое религиозное сознание. Ну, в связи с тем, что Сергей Соловьев, — у него была такая работа интересная. Я говорила о стихах, но попутно включала его остальную деятельность – Гёте и христианство. И что-то я об этом говорила. И еще у него было заметка о соединении церквей. Он такой был экуменист. Англиканскую церковь… Считал, что первым шагом было соединение Православной и Англиканской церкви. Ну и доказывал, почему именно вот эти христианские церкви, вот их можно объединить. Вот. Ну что, могут подумать, что мы в семинаре занимаемся новым религиозным созданием, что, значит, нехорошо. Вот поэзией Блока можно было заниматься, и даже там Сологуба, но религиозными философскими исканиями в те гг., в советские, было заниматься плохо. И как бы тут он был абсолютно прав: у него могли быть неприятности. И третья претензия у него была, что я «Гёте» сказала по-русски. В то же время… Хотя в слове «Гёте» я должна была по-немецки первую букву произнести, но немецкого языка я совсем не знала. То есть я слышала, как он произносит. Ну как-то вот об этом я даже абсолютно не подумала, почему он мне сказал. «Я бы вам мог еще простить, если бы «Хайне» вы неверно произнесли как «Гейне». Но чтобы «Goethe»… [смеётся] Сказали «Гётэ»… [смеётся] Извините, я буду о вас теперь худшего мнения, чем был раньше». Вот, так что мне за фонему попало, — можно сказать, влетело из-за фонемы. Тем не менее, я у него потом диплом писала, там все.
И опять же про противоречивость тех времен. Я хотела написать диплом про... Я тогда уже интересовалась этой античной темой в преломлении начала XX века, поэтов в частности. Я хотела написать диплом на тему: «Античность в раннем творчестве Вячеслава Иванова». А мне сразу же Дмитрий Евгеньевич сказал, что эту тему никакая кафедра не утвердит, потому что Вячеслав Иванов уехал за границу. Я говорю, он же не эмигрировал, уехал, там у него было даже гражданство советское. Все равно, он как бы так вот официально не под запретом. Вот такую тему, — если хотите вот на эту тему про античность, пишите про Брюсова. Потому что Брюсов, как известно, совсем наоборот, вступил в коммунистическую партию [смеётся]. Дмитрий Евгеньевич этого мне тогда не сказал, но это все знали, что Брюсова можно изучать без всяких оговорок. Ну и ладно, что делался. Я написала диплом «Цикл „Любимцы веков“ в сборнике Брюсова „Tertia Vigilia“[17]», где всё-таки сопоставила стихотворение «Кассандра» Брюсова и стихотворение «Кассандра» Вячеслава Иванова. То, что мне было интересно.
Да, и тут тоже интересная история была. Получился на мой защите небольшой скандал, что-то такое, скажем, недоразумение. А ситуация была в том, что... Ну, я пришла на кафедру, чтобы оппонентов мне дали, диплом я сдала. Да, а сам Дмитрий Евгеньевич был болен. Я когда у него была дома, он дома прочел, подписал, но он не мог как мой научный руководитель, даже присутствовать, потому что он был тяжело болен. Им вот нужны были оппоненты. Кафедра дала, — мой диплом дала Беркову[18], которого я толком и не знала, и так у него толком не занималась. Поскольку он тут античный, то, в общем, не знаю, дали Беркову. И мне сказали, найдите себе еще оппонента, потому что должен был быть Дмитрий Евгеньевич как руководитель. Ищите. А я была… Так получилось, что я была знакома с Ильей Захаровичем Серманом[19], который занимался... в Пушкинском доме работал. И я к нему пошла на работу в Пушкинский дом со своим дипломом, я говорю, что мне на кафедре сказали, ищите себе. Если я вас попрошу, согласны прочесть мою дипломную работу и высказать свое мнение? Он сказал, согласен. Согласился, прочел. Ну и потом, когда была защита, еще вдруг... Да, я забыла, человек, которого обязательно еще упомяну, — Людмила Александровна Иезуитова[20], у которой я в просеминаре занималась, я у нее писала работу о влиянии дяди на племянника — о влиянии Василия Львовича Пушкина на Александра Сергеевича Пушкина. Там, например, Буянов, про которого он написал поэму[21], Василий Львович. И этот Буянов, который, — он же упоминается в «Евгении Онегине» Пушкина. Ну там другие всякие, я уже сегодня не помню... Короче говоря, когда у меня оказалось, — у всех нормальных людей два оппонента, а тут, значит, вот откуда-то взялась Людмила Александровна, которая действительно вначале занималась… Причём как это произошло, я не знаю. Видимо, из-за болезни Дмитрий Евгеньевича думали, что... В общем, я не знаю, кто что думал.
У всех нормальных людей два оппонента — у меня три оппонента. И оппоненты между собой поругались. Короче говоря, Людмиле Александровне как раз мой диплом понравился, а Павлу Наумовичу Беркову решительно не понравился. И они между собой, Людмила Александровна и Павел Наумович, они, значит, препирались из-за моего диплома в моем присутствии. А Илья Захарович, как человек со стороны, он так спокойно, как-то так вот объективно что-то пытался… Поэтому я получила четверку с этим дипломом. Хотя я бы сама за него, по-честному говоря, больше не поставила, потому что я хотела об одном авторе, а мне пришлось о другом. А Брюсова я не любила просто. Такой вот это был... Компромисс.
Ну вот, да, а про Людмилу Александровну Иезуитову я хотела рассказать, что она очень радела за своих воспитанников. И у нее я еще до, —это в просеминаре написала про Василия Львовича Пушкина, так она эту работу носила на студенческое научное общество. Она была большая, попросили сократить на студенческое научное общество. Я сократила, сказали, что что-то ушло, нужно увеличить. В конце концов я даже прочитала в студенческом научном обществе, но не в том виде, в котором я ее написала, и, по-моему, ни мне не понравилось, ни слушателям. Ну так, не то, что она не понравилась, особый успех это не имело, это факт. Но она [Л.А. Иезуитова] всячески старалась помочь, и очень хорошо она Леонидом Андреевым занималась. Нас всячески к этому хотела тоже привлечь. Там лекции читала тоже по Леониду Андрееву. И тоже, как бывает, встреча потом. Она очень многим преподавала, очень долго работала уже после того, как я закончила. И вот буквально лет шесть назад, вот до пандемии, вот ее последняя, — одна из последних ее учениц, Юлия Валиева, которая сама преподает сейчас на Филфаке, — она устроила конференцию вот памяти Людмилы Александровны Иезуитовой и меня тоже пригласила, поскольку я у неё училась, но уже не про Людмилу Александровну, но просто в конференции принять участие. Я как раз на Филфаке в этой конференции принимала участие. Вот. А что говорить про…
Потом так получилось, что я больше оказалась связана с востфаком. Потому что я 30 лет проработала в библиотеке Института Востоковедения. После университета я интересовалась грузинской литературой, языком. Съездила в Грузию, в какой-то степени… Занималась с преподавателями на курсах. В какой-то степени языком овладела. И потом я пришла в библиотеку Института Востоковедения и говорю, я знаю, что у вас есть грузинские книги, они обработаны? Нет, не обработаны. А можно у вас? Ну, в общем, короче говоря, сначала на временную работу меня взяли, потом это окончилось, потом просто меня взяли на постоянную работу в [19]87-м г. Я там 30 лет проработала. И там я занималась грузинской книгой. Поэтому, во-первых, когда, по-моему, в 2006-м или 2005-м г. была конференция, посвященная 150 лет Восточного факультета, — когда была конференция, я в ней принимала участие, была статья о грузинской сатирической литературе начала XX века. Я там делала доклады, и она потом, — тезисы были опубликованы в этом сборнике, а потом весь сборник, весь доклад тоже был опубликован.
А потом еще интересно было: дело в том, что, по-моему, в 2002-2003 г. работало [возобновило работу] Кавказское отделение. Оно там было впервые в 1844 г. И такой Чубинов, Чубинашвили[22] — он составитель грузино-русско-французского словаря. Он закончил университет, там был оставлен. И он преподавал на этой кафедре. Армянскую литературу какой-то другой преподавал человек. И потом, соответственно, после его смерти (Чубинашвили) профессор Цагарели[23] еще там преподавал. А после профессора Цагарели — Николай Яковлевич Марр[24], до [20]19-го г. там тоже заведовал кафедру, это преподавал. А потом уже как-то оно немножечко пошло на спад… И последние там такие вот братья Дондуа преподавали. В общем, заключается в том, что как бы его и не закрывали, но просто прекратили добор. И оно по факту перестало существовать. А потом, в 2002-[200]3-м г., его возобновили при кафедре иранской филологии. И там студенты, кроме иранского языка, изучали грузинский и армянский языки. И Иван Михайлович Стеблин-Каменский[25], который был тогда завкафедрой иранской филологии, по-моему, даже был деканом Восточного факультета, — он меня пригласил прочесть курсы лекций по грузинской литературе XIX-XX веков. Я сначала говорю, давайте только ограничимся ХХ, потому что это я хорошо знаю, XIX не очень, а он говорит: надо подготовиться. Подготовилась, и это было в 2005 г. Я там была, семестр читала курс лекций по грузинской литературе XIX-XX веков. И мне очень приятно, что одна из моих учениц, Василиса Крылова, она сейчас там преподает грузинский язык, преподает на этом отделении [смеётся]. Грузинский и армянский она преподает. И даже перевела сейчас вот «Жития грузинских святых». Как это… Древнегрузинский текст, изучив древнегрузинский язык, эта книжка вышла несколько лет назад. Так что я причастна к университету, так что я семестр преподавала.
Что произошло потом? Всё время же что-то происходит. Потом Ивана Михайловича не переизбрали деканом, и он ушёл в институт лингвистических исследований, где последние годы работал. А отделение грузинского и армянского языков, их передали на кафедру Центральной Азии и Кавказа. Вот так кафедра называлась. А человек, который заведовал этой кафедрой, сказал, что мы со стороны никого брать не будем, мы будем только собственными силами. И одну даже мою знакомую... Ей сказали, чтобы она подготовила курсы лекций по грузинской литературе, хотя она сама афганистка была по специальности. Ну, что делать? Начальство требует. Вот. И уже я больше... Там, во-первых, не каждый год там набирали, раз, ну как? В три — в четыре года. Больше я там не преподавала. Но такой эксперимент был.
Да, это интересный такой опыт, востфак. И в целом у Вас в студенчестве такие определенные были интересы, которые Вы четко осознавали, отстаивали. И в связи с этим хотелось бы спросить, как Вы вообще охарактеризовали бы настроение, которое в студенчестве, в гг. вашей учебы в университете царило? Вообще, какие-то оттепельные тенденции — они отражались на атмосфере ВГУ, на отношении обучающихся к предметам, к преподавателям?
Нет, во-первых, студенты — это не однородные... Среди всяких студентов были просто студенты, которые знали, что учиться в университете престижно, и если уж учиться, получать высшее образование… Или были — в основном, студентки, которые книжки любили читать и считали, что это проще: ну я люблю читать книжки, я буду больше книжек читать и получу диплом, чем идти на физику, в которой я ничего не понимаю, где меня выгонят все равно. То есть такое тоже было. А были те, которые интересовались. И вот был сборник, их готовили два сборника. Одни говорят, что один вышел. Другие говорят, что ни одного не вышло. Но один я читала в машинописи, «Звенья» называлось. Вот как раз когда я училась, тогда этот... Сейчас скажу, Владимир Новосёлов, один из составителей, потом последний муж Беллы Улановской, «Звенья». Он занимался этим сборником, составлением. К этому причастен был, по-моему, Виктор Кривулин, там еще несколько человек — просто я сейчас всех не помню, но об этом есть. Там «Самиздат Ленинграда»[26], например, это самое есть. Перечислено, кто был. В общем, потом у Пазухина есть воспоминания в книжке «Сумерки „Сайгона“»[27]. В общем, короче говоря, вот эти сборник и «Звенья» – это как раз было отражение времени и оттепели. Люди писали, сами студенты в основном писали на материале филфака наблюдение за студентами, преподавателями. Но потом это все… Кафедра советской литературы еще там курировала. Там люди были такие, очень советские. Хотя, допустим, там Наумов был, Евгений Наумов[28], он человек был знающий, образованный. Нельзя сказать... Ну, такой очень партийный, скажем так. И еще Плоткин[29] был такой тоже, которого там в шутку называли «отец русской демократии». У него, — я скажу только одно, что, не знаю, может, мне это нехорошо, но я не могу. Но я езжу там, ну, к своим знакомым в Комарово, вот несколько дней назад тоже была. Ну, там самые разные есть памятники, особенно тогда, ну, я не знаю, в [19]70-е, [19]80-е, когда, не знаю, когда он умер. Но факт то, что памятник ему поставили — собрание его сочинений. Плоткина собрали сочинения: том 1, том 2, том 3 — вот, три вот каменные такие книги.
В общем, как-то так. Альманах «Звенья» эти люди не пропустили. Может, тот, кто к этому и не был прямо причастен, я не знаю. Такие настроения. И поэтому потом многие из тех, кто у нас учился, Сережа Стратановский[30] тоже, например. Кстати, забыла его помянуть: в семинаре у Дмитрия Евгеньевича Максимова мы с ним тоже занимались. Многие пошли издавать самиздатные журналы: например, «Часы» и «Обводный канал». Что тут не получилось, в стенах университета, — делали вне стен.
А скажите, пожалуйста, какой вообще самиздат Вы в тот период читали?
Дело в том, что так получилось, что в тот период... Я больше читала тамиздат, чем самиздат. Потому что в основном... Ну, как бы я там с Бродским дружила. А Бродскому давал Эткинд, который получал, — он занимался западной литературой. И вот именно всякие литературные, — мемуары литературные, допустим, вот это Маковского «На Парнасе Серебряного века» я уже назвала. А потом там Федотов[31], скажем, «Три столицы», Федотов, Вейдле[32], вот такие всякие известные деятели русской миграции и мемуары. Конечно, Георгия Иванова мемуары, и Ирина Одоевцева тогда, — это впервые я прочла, до того, как они здесь были изданы, мемуары. В основном такие литературные вещи. И просто Набокова, — конечно, Набокова, Алданова, то есть произведения русской эмиграции, журналы какие-то, номера отдельные старые, попадались: там это «Современные записки», например. Берберову[33], — а вот Берберову я помню: Берберова, «Курсив мой»[34]. Это по-английски я прочла. У кого-то из знакомых был такой толстый том, мне дали почитать. Это воспоминания. По-английски Берберову я прочла. Так что я довольно много читала. О, альманах «Воздушные Пути»[35]. Потом я еще забыла упомянуть, что я еще ходила на спецкурс, у нас читал Ефим Григорьевич Эткинд. Он сам преподавал в Герценовском университете — в Герценовском институте, тогда был педагогический институт. А у нас он читал очень интересный именно по поэтике спецкурс, я несколько лет ходила, и у него зачет это по спецкурсу получила. И он как раз пользовался в своих лекциях работами американского слависта, который здесь учился, потом там оказался, — Владимир Федорович Марков[36]. Сейчас у нас его всё издано на русском языке. И он автор монографии, — первая монография о русском футуризме, [19]68-й г., по-английски было написано, сейчас переведено всё. Вот. И просто он много занимался поэтикой. Например, вот такой фактор, что мне было очень интересно, как троегласия… Там у него эпиграф из Лермонтова, допустим: «Я без ума от тройственных созвучий / И сладких рифм, — как, например, на ю»[37]. То есть это психолингвистический такой аспект. Как вот фонетика влияет на восприятие, какие она вызывает ассоциации. И вот этим тоже, в частности, пользуюсь. Я потом как-то подошла после лекции о троегласии к Ефиму Григорьевичу Эткинду и говорю, что вот... Как интересно, что вот это самое... Я читала статью Маркова о троегласии, как раз вот о том, что самое. Он говорит, что, возможно, у нас был один и тот же источник, так дипломатично сказал. А потом выяснилось, что это он Бродскому дал, а Бродский мне дал почитать. Вот. Так что тоже очень интересные были лекции. И как раз то, что западные слависты исследовали, — какие-то их книги, таким путём просто в пересказе Эткинду попадалось.
Да, но надо сказать ещё, что в семинаре у Дмитрия Евгеньевича всегда были западные студенты, которые Блоком, скажем, занимались. У нас в семинаре были студенты, я сейчас имён их не помню. Вот, а когда потом на BBC работала… Господи, да как её звали... Элизабет? Нет, не помню фамилии… Но в общем, все время там были. Как-то тоже Дмитрий Евгеньевич говорит, если хотите, можете в гости приглашать, — то есть, короче говоря, общаться было можно, это я не могу сказать, в университете.
Ну у вас, да, довольно активные, получается, были связи, вы не чувствовали, что вот есть официальная культура и неофициальная? Или это было, чувствовалось, но не сильно?
Ну как сказать? Например, если те люди, которые, допустим, чем-то занимались на советской кафедре, они это больше чувствовали. А чем дальше: скажем, кто занимался 18-м веком, может быть, и не чувствовали. То есть там какие-то свои трактовки тоже были, но менее заметно.
Да, и вот у нас уже немножко время к концу подходит, через 5 минут будет часик беседы. И я хотела бы… Вы многих своих товарищей, однокурсников упомянули. Может быть, есть еще лица, которые именно... Знакомства, которыми для вас очень важными оказались, очень сильное на Вас впечатление произвели, или в целом те, кого Вы с теплотой вспоминаете? Именно однокурсников.
Ну вот, Белла Улановская из однокурсников. По семинарам, в основном. По-моему, она на г. старше меня была, кажется. Вот именно такая компания какая-то создалась именно на семинаре вот у меня лично Дмитрия Евгеньевича Максимова, потому что вот с этими людьми, с Беллой Улановской, с Наташей Ашимбаевой, мы вместе несколько раз были, с Наташей Фрумкиной — на конференциях.
Например, я помню, как мы вместе ездили на конференцию в Тарту, и Белла Улановская как раз именно пробивала там, куда-то ходила, чтобы там это... Единственный раз, когда удалось, чтобы нам оплатили дорогу на конференцию, — она там вот этим занималась, ходила. Ну, по инстанциям там нужно было что-то писать, что-то подписывать, какие-то бумажки. Вот это раз — я помню, в Тарту мы ездили. И потом еще была какая-то конференция — тоже мы с Беллой Улановской. А кто третий, я не помню. Это в Коломну, — была какая-то конференция в Коломне, на которую мы тоже ездили. Потом, помню, как в Москве то ли там на конференции, то ли возвращались из Коломны. В общем, идея была в том, чтобы… Во-первых, известно, что символисты любили ресторан «Метрополь» и там собирались. Дмитрий Евгеньевич об этом рассказывал, мы читали в мемуарах, и поэтому мы... Вот я помню, что точно была Улановская, и кажется, то ли Наташа Фрумкина, то ли Наташа Ашимбаева, а может, они обе были. И мы решили пойти в ресторан «Метрополь», ну, днём. Денег у нас, конечно, было как-то там… Ну просто самое вот это — побывать в этой обстановке, потому что там тогда ещё и мебель сохранилась, всё. И, соответственно, что-нибудь такое съесть. И, значит, куропатку решили съесть. И мы пошли как-то так: сначала метрдотель: там, девочки, у нас тут, у нас дорого, — я говорю, ничего, как-нибудь, вот всё. Ну, это, наверное, в час дня, допустим, пошли. «А что вы хотите?» Там нам меню принесли. Куропатку. Я не знаю, что они... Я помню точно, что я ела куропатку, потому что хотелось в «Метрополе» съесть куропатку и почувствовать себя в десятых годах где-то. Вот это раз.
А второй раз, помню, это было уже более литературное. Мы пошли в союз писателей. Я написала заранее еще отсюда письмо Михаилу Зенкевичу, который как раз относился к поэтам десятых гг. и был еще жив тогда: чтобы он нам побольше о своем времени, о литературе того времени рассказал. Он нам назначил встречу в определенное время, в определенный час, в Союзе писателей Московском. Туда так просто не пускали, но он там вышел, нас там встретил, нас провели, и мы сидели там с ним за столиком, а он уже на машинке напечатал, ну, какую-то библиографию. Говорит, вот у него библиография. Ну, ничего особенного, настолько, помню, интересного он не рассказывал, но тем не менее согласился с нами встретиться. И какой-то материал библиографический нам дал. Мы с ним посидели, поговорили.
И третье: вот в один из этих приездов был, я уже не помню, в какой точно, — это то, что действительно был такой знакомый Сосинский[38], ну вот ре-иммигрант, который вернулся, с которым дружил Скира[39]. У него дома были все альбомы Скира: Скира ему просто по почте присылал все. И вот я взяла своих двух приятельниц, вот опять же Белла Улановская, по-моему, Наташа Ашимбаева, если не ошибаюсь, это можно у нее спросить. И я позвонила, пошли в гости к Сосинскому. И там у него целый... Тогда вообще это было... Ну, ни у кого из моих знакомых больше не было. Вот целый стеллаж с альбомами. Там, я не знаю, хоть Дали, там Кирико, хоть Энди Уорхол, — кто угодно. И можно было... Мы у него сидели несколько часов, и каждый взял себе тот альбом, который хотел, и просто смотрел иллюстрации. Вот. Так что вот это я помню тоже, связанное с университетом и с какими-то знакомыми.
Это очень-очень яркий опыт, конечно, понимаю Вас. Напоследок можно у вас узнать. Вы упомянули про Тарту, очень хотелось вас спросить… Вы как раз в период студенчества, насколько я знаю, в том числе помимо учебных работ, независимые исследования проводили, — и вот мне было интересно, получали ли вы какую-то поддержку? И наверняка как раз конференции в Тарту вас вот так вот заряжали вдохновением, мотивацией, в том числе продолжать исследования. Да, и хотелось бы узнать какие-то, может, особенности этого опыта, который вы сейчас с удовольствием вспоминаете. Вы про него уже рассказывали, но просто может быть... Именно что-то, что вы до сих пор вспоминаете с такими удовольствием?
Ну, Тарту я всегда вспоминаю с удовольствием — Тарту того периода. Просто я стала уже на первых курсах заниматься творчеством Константина Вагинова, с которым, кстати, был знаком Дмитрий Евгеньевич Максимов. И я к нему подошла впервые в университете, говорю, что я разыскиваю знакомых Вагинова, что вот я слышала, что вы были знакомы. Он говорит, да, немножко я его знал. И мы с ним договорились встретиться на эту тему поговорить. И потом что-то я уже написала биографического характера. И дома у Дмитрия Евгеньевича — он позвал действительно друзей Вагинова, там Егунов[40] был, и еще целый ряд людей, и его там поколение. И там я читала... А, Эльга Львовна Линецкая там тоже была — переводчица очень известная, которая семинар в Союзе писателей переводческий вела. И там я прочла доклад о Вагинове. Тоже люди выступали, и он тоже, Дмитрий Евгеньевич, много там всего говорил и критиковал много. А потом я что-то подправила и говорю, давайте теперь это на семинаре прочту. Дмитрий Евгеньевич в восторге не был, но как-то я его уговорила. Потому что с одной стороны это... С одной стороны, у Вагинова там стихи, особенно ранние, в духе символистов, но с другой стороны... Это уже формально советское время, [19]21-й г. Вот вышел первый сборник, ну, как бы так, на грани. И я там это прочла на семинаре, доклад, и он там заметил, что какие-то его замечания были учтены, и все. Но надо сказать, что ни на одной конференции в университете, когда я там училась, как-то я там не выступала. А, нет, только вот студенческое научное общество, где Василий Львович Пушкин. Вот это единственное, что было. А в Тарту как раз первый раз, когда я поехала в студенческие гг., именно о Вагинове. И там это абсолютно всё нормально было принято.
Я просто помню, что это прекрасная конференция. Во-первых, тезисы были напечатаны. Это 1967 или 1968 г. Тезисы были напечатаны, сборник студенческих работ. И там именно я рассказывала о Вагинове, а Михаил Мейлах[41], который учился со мной, только постарше, на французском отделении, — он там про Введенского, и, по-моему, то ли про Хармса, то ли про Липавского[42]. В общем, про Введенского, два доклада у него было. И тоже там, именно в Тарту. И там просто другая была атмосфера, поскольку, как всем известно, был Юрий Михайлович Лотман и Зара Григорьевна Минц. Я как раз больше общалась с Зарой Григорьевной, потому что Юрий Михайлович — это все-таки Пушкинская эпоха, вот это то время, а Зара Григорьевна как раз именно символизмом тоже. Она ученица Дмитрия Евгеньевича Максимова, одна из первых учениц: буквально Дмитрий Евгеньевич Максимов после военных, в [19]47-[19]48 гг., где-то там что-то, — она у него училась, и с ним поддерживала связь, у них переписка есть сейчас опубликованная. И в Тарту там на те темы можно было делать доклады, выступать — на которые здесь просто было нельзя. Вот как вот мне не позволили даже про античность творчества Вячеслава Иванова [смеётся]. Ну что тут? «А знаете, он уехал» [смеётся]. Значит, уже нельзя. И там как-то все было... То есть иногда тоже им говорили, что когда печатать доклад можно было, а печатать... Зара Григорьевна говорила, вот сейчас вот, скажем, Мережковского можно упоминать, если вы будете печатать работы, а Гиппиус — нельзя. Или, наоборот, Гиппиус можно упоминать, а Мережковского... То есть тоже какие-то… До цензуры что-то доходило, но в значительно меньшей степени в этих… Блоковские сборники они издавали. И просто сборники, и студенческие работы, учёные записки. Там очень много как раз было по теме. Дмитрий Евгеньевич сам в этих блоковских сборниках часто участвовал.
Но там другая была совершенная атмосфера. Тут еще дело в том, что Ленинград-то город большой, и у каждого были свои какие-то, кроме университета, свои друзья, свои знакомые, свои круг общения. Не у большинства людей, — вот из тех, кого я знаю: то же самое, Женя Звягин, например, или это Белла Улановская, — еще какие-то свои были, ну, компании, там группы, там все. А там все маленькое, и поэтому, ну, как бы одна компания была. Большая компания, в которую как бы маленькие компании входили, поэтому там все вместе... Во всяком случае, когда мы приезжали на конференции, там некоторые люди учились, — мы с ними знакомились на конференциях. Мы там жили в общежитии, а кто-то снимал. Например, вот я помню, Мишу Билинкиса[43], его тогда жена, Лена Шкловская, — они снимали себе квартирку там, и мы у них сидели вечерами, допустим. Сидели, разговаривали, выпивали. И потом какие-то тартусские дома: например, был математик такой, профессор был Габович[44], у него собирались. Тоже он какие-то песни сочинял, на гитаре пел. То есть там, ну, как-то во всякий случай, когда мы приезжали, было очень весело.
Компания гостей, которые приехали, не только из Ленинграда, из Москвы тоже приезжали, бывало, что из других городов. Вот мы как-то все вместе компанией вечера тоже проводили именно с местными студентами. И, в общем, было очень весело, хорошо. То есть, там была настоящая такая студенческая жизнь. Потом, однажды там вообще —у нас такое вообще было немыслимо — карнавал. Мы приехали, они решили устроить карнавал. И устроили в каком-то помещении, куда нужно было обязательно прийти в карнавальных костюмах. У нас их не было — и каждый кто во что. И я, например... Сейчас появилась мода, сейчас вижу буквально ажурные чулки. И тогда тоже были в моде эти ажурные чулки. И я помню, что я на лицо натянула [смеётся] ажурный чулок. И меня сразу пропустили, потому что без костюма не пускали. А Белла Улановская, — вот тогда я точно помню, что Белла Улановская, она даже тюрбан себе какой-то закрутила, и она себе усы тушью, — там чем-то нарисовала усы. Там такой пират какой-то: кольцо в ухе, — пират. Вот, и вот вели себя в этих масках соответственно. Ну и вообще было очень весело, я помню.
А кроме того, я помню моё первое впечатление, когда я, по-моему, первый раз приехала в Тарту. Там студенческое кафе. Здесь у нас другое. Вот тоже такая Академичка была — замечательная вещь. Это огромное помещение — Академичка. Мы там столик занимали, а помещение огромное. А тут меньше объем. И там, конечно, с эстетической точки зрения. В Академичке было интересно, но с точки зрения дизайна — никакого. Большая столовка, очень большая столовка, абсолютно ничего. А там, особенно одно время, когда я первый раз там была, студенческое кафе было украшено абстрактной живописью. Для нас это вообще было. Можно пойти в публичную библиотеку посмотреть, а тут прямо в студенческом кафе никто не запрещает… А тут сидишь. И кроме того, конечно, там это очень было вкусно, было недорого, и, например, до сих пор, с тех времен, помню, карбонатус назывался, вот такой карбонат, вот такого размера, отбивная. Которая нам была по карману, естественно, не помню. Мы ходили в студенческое кафе, карбонатус, заказывали. И тоже встречались. Там я подружилась, то есть мы познакомились раньше с Гариком Суперфиным[45], с которым до сих пор мы поддерживаем отношения. Потом, там помню, — и это долго продолжалось. Это дошло в конце 80-х гг., когда алкоголь запретили. И я тоже была на какой-то конференции. И там был банкет, но вина было нельзя. И вино, как раз вспоминали люди: когда была Первая мировая война, там, значит, в ресторан люди приходили: нам, пожалуйста, там чайник чая. И ставили, — поскольку нельзя было вино — чайник ставили, и там и чашки. А там водка там была, допустим. В общем, короче говоря, также под видом сока или чего-то в бокалах тут с соком, тут вино там доливали, что просто поставить бутылку было нельзя, это запрещено. Но всегда человек найдет выход из положения: под видом сока там пили вино, и много там смеялись и веселились. Нет, в Тарту жизнь была… Конечно, она отличалась. Но вот, видимо, потому что более вот узкий был круг, и больше негде людям было общаться.
Потом там очень был интересный человек, она сейчас, по-моему, уже умерла, — Анн Мальц, которая ученица Юрия Михайловича Лотмана. Тоже с ней мы общались. В общем, было с кем общаться. В Тарту учились самые разные люди из разных городов. И вот у нас своя компания сложилась. Потом мы даже когда на других конференциях пересекались, как уже такие, как старые приятели были.
Вот сейчас последнее как раз, я хочу сказать, что Лена Душечкина[46], с которой я в Тарту познакомилась, — она там в Тарту, а потом она здесь, в университете, преподавала до конца своих дней. Сейчас как раз год назад вышел сборник ее памяти. У меня ее дочка, которая в Америке сейчас живет, — она попросила написать в этот сборник воспоминания. И там как раз я пишу про Тарту, как в Тарту... У Лены Душечкиной тоже мы это собирались, как весело время проводили. А вот именно про то пишу, там общались. Потом она, когда закончила, в Таллине жила и преподавала. И в Таллине она там детский университет устроила для детей — своих и своих друзей. И нас всех туда приглашала, и меня тоже: два раза лекции читала в детском университете, там и ночевала у нее, и все. В общем, мы так дружили, и она сюда, когда приезжала в архивах заниматься, была у меня. А после, как она сюда переехала... Первое время еще там вот она с мужем, Сашей Белоусовым[47], заходили, а потом как-то постепенно раз в полгода, раз в год стали видеться, хотя оставались в хороших отношениях. Ну просто у каждого своя работа, у каждого свои дела, большой город, и такого общения не стало. Это тоже об этом пишу.
Ну как вы заметили, действительно очень яркий студенческий опыт. Спасибо большое, что так подробно с нами поделились. На этом, наверное, уже 14.40, мы вас и так задержали, вызвали.
Спасибо большое.
[1] Хосе Клементе Ороско (1883 — 1949) — мексиканский живописец и график, один из главных новаторов в области монументальной живописи XX века.
[2] Пластинки на костях – существовавшие с 1940-х гг. в СССР записи музыкальных произведений на пластинках из рентгеновский снимках.
[3] Бенни Гудман (1909 — 1986) — американский джазовый дирижёр, «Король свинга».
[4] Джексон Поллок (1912 — 1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма.
[5] Григорий Абрамович Бялый (1905 — 1987) — советский литературовед, литературный критик, специалист по истории русской литературы XIX века, профессор ЛГУ.
[6] Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912 — 1986) — советский литературовед и критик. Доктор филологических наук, профессор.
[7] Исаак Григорьевич Ямпольский (1902 – 1992) — советский и российский литературовед, специалист в области истории русской литературы и публицистики XIX века. Профессор ЛГУ.
[8] Виктор Андроникович Мануйлов (1903 — 1987) — советский литературовед, мемуарист и сценарист. Профессор, доктор филологических наук. Широко известен прежде всего как пушкинист и лермонтовед. Его 23-летний труд учёного-исследователя творчества М. Ю. Лермонтова завершился в 1981 г. изданием «Лермонтовской энциклопедии».
[9] Григорий Николаевич Петников (1894 — 1971) — русский поэт, переводчик, издатель.
[10] Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904 — 1987) — советский литературовед, историк литературы, поэт, мемуарист. Доктор филологических наук (1965).
[11] Белла Юрьевна Улановская (1943 — 2005) — советская и российская писательница, библиотекарь, сотрудник музея Достоевского.
[12] Наталья Туймебаевна Ашимбаева (род. 1944) — советский и российский филолог, литературовед, достоевист, директор петербургского литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.
[13] Наталья Андреевна Рогинская (Фрумкина) (род. 1944) — учитель русского языка и литературы в Санкт-Петербургской классической гимназии №610 (с 1990г.), выпускница филологического факультета ЛГУ, сотрудница Института русской литературы (Пушкинский дом).
[14] Виктор Борисович Кривулин (1944 — 2001) — советский и российский поэт и прозаик, эссеист, редактор, критик, литературовед, культуролог, переводчик. Один из главных представителей ленинградского андеграунда.
[15] Ираклий Луарсабович Андроников (1908 — 1990) — советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Доктор филологических наук (1956).
[16] Арам Паруйрович Григорян (1930 — 2022) — советский и армянский филолог и писатель, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН Армянской ССР (1986).
[17] «Tertia Vigilia» («Третья стража») — сборник стихотворений Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924).
[18] Павел Наумович Берков (1896 — 1969) — советский литературовед, библиограф, книговед, источниковед, историк литературы. Специалист в области русской литературы XVIII века. Доктор филологических наук (1936), член-корреспондент Академии наук СССР (1960).
[19] Илья Захарович Серман (1913 — 2010) — советский и израильский литературовед, педагог, мемуарист, доктор филологических наук, специалист по истории русской литературы XVIII—XIX веков.
[20] Людмила Александровна Иезуитова (1931 — 2008) — советский и российский литературовед. Профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского университета. Автор монографии о творчестве Леонида Андреева и многочисленных статей о Серебряном веке русской литературы.
[21] Буянов — герой поэмы «Опасный сосед», написанной дядей поэта Василием Львовичем Пушкиным.
[22] Давид Иессеевич Чубинашвили (Чубинов-Георгиев) (1814—1891) — заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре грузинского языка и словесности, учёный-картвелолог, составитель первого большого грузинско-русского словаря, первый профессор грузинской словесности, основоположник систематического изучения грузинского языка в России.
[23] Александр Антонович Цагарели (1844 — 1929) – российский, советский и грузинский востоковед, специализирующийся на картвельской филологии, в частности на грузинской. Ординарный профессор Петербургского университета с 1889 по 1916 гг., с 1920 по 1929 гг. – заслуженный профессор Философского факультета Тбилисского государственного университета.
[24] Николай Яковлевич Марр (1864 —1934) — грузинский, российский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог, академик Императорской академии наук (1912), затем академик и вице-президент АН СССР.
[25] Иван Михайлович Стеблин-Каменский (1945 — 2018) — советский и российский лингвист, академик РАН (2003). Специалист в области иранистики, истории иранских языков, этимологии, фольклора и этнографии иранских народов, переводчик «Авесты», поэт.
[26] Самиздат Ленинграда : 1950-е - 1980-е : Лит. Энциклопедия. М., 2003. 622 с.
[27] Сумерки «Сайгона». СПб., 2009. 784 с.
[28] Евгений Иванович Наумов (1909 — 1971) — советский литературовед и критик, доктор филологических наук (1955), профессор.
[29] Лев Абрамович Плоткин (1905 — 1978) — советский литературовед, литературный критик, доктор филологических наук, профессор.
[30] Сергей Георгиевич Стратановский (род. 1944) — советский и российский поэт и библиограф, создатель ленинградского самиздатского журнала «Обводный канал» (1981-1993), экскурсовод, сотрудник Российской национальной библиотеки. См. интервью С.Г. Стратановского.
[31] Георгий Петрович Федотов (1886 —1951) — русский историк, философ, литературовед, религиозный мыслитель и публицист.
[32] Владимир Васильевич Вейдле (1895 — 1979) — литературовед, культуролог, либеральный мыслитель, историк культуры русской эмиграции, поэт.
[33] Нина Николаевна Берберова (1901 — 1993) — русская писательница, поэтесса, педагог, автор документально-биографических исследований и мемуаров «Курсив мой. Автобиография», содержащих уникальную информацию очевидца начала и зрелости XX века в Российской Империи, Франции и США.
[34] Курсив мой: Автобиография. М., 1996. 734 с.
[35] Воздушные пути: Альманах. Нью-Йорк, 1960. 287 с.
[36] Владимир Фёдорович Марков (1920 — 2013) — американский славист, специалист по творчеству Велимира Хлебникова, историк русского модернизма, публицист, поэт, переводчик «второй волны» русской эмиграции, литературовед, преподаватель.
[37] М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1839). Полное собрание стихотворений в 2 томах. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1837—1841. М., 1998. С. 489.
У Лермонтова: «Я без ума от тройственных созвучий / И влажных рифм — как, например, на ю».
[38] Владимир Брониславович Сосинский (наст. ф. и. о. – Сосинский-Семихат Бронислав Брониславович) (1900 – 1987) — советский литератор, переводчик.
[39] Альберт Скира (1904-1973) — швейцарский арт-дилер, издатель, основатель издательства Skira., автор многочисленных художественных сборников.
[40] Андрей Николаевич Егунов (псевдоним Андрей Николев) (1895 — 1968) — русский писатель, поэт и переводчик, литературовед.
[41] Михаил Борисович Мейлах (род. 1944) — советский и российский литературовед, филолог, поэт и переводчик, специалист по романской филологии и новейшей русской литературе.
[42] Леонид Савельевич (Саулович) Липавский (1904 — 1941) — советский писатель, философ и поэт. В 1920-х — 1930-х годах — участник и один из организаторов эзотерических содружеств поэтов, писателей и философов «Чинари» и ОБЭРИУ.
[43] Михаил Яковлевич Билинкис (1945—2007) — российский филолог-русист, преподаватель. Доцент кафедры истории русской литературы СПбГУ, литературовед, специалист по истории русской литературы и общественной мысли XVIII — первой половины XIX в., теории литературы.
[44] Яков Абрамович Габович (1914—1980) — советский математик, доцент Эстонской Сельскохозяйственной Академии в Тарту, преподаватель, отец советского и немецкого математика, диссидента, публициста Е.А. Габовича..
[45] Габриэль Гаврилович Суперфин (род. 1943) — советский и российский филолог и историк, архивист и источниковед, участник правозащитного движения в СССР.
[46] Елена Владимировна Душечкина (1941 — 2020) — советский и российский литературовед и культуролог, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
[47] Александр Фёдорович Белоусов (1946 — 2023) — советский и российский филолог, специалист в области изучения русского фольклора, теории и истории русской литературы и культуры. Кандидат филологических наук.


